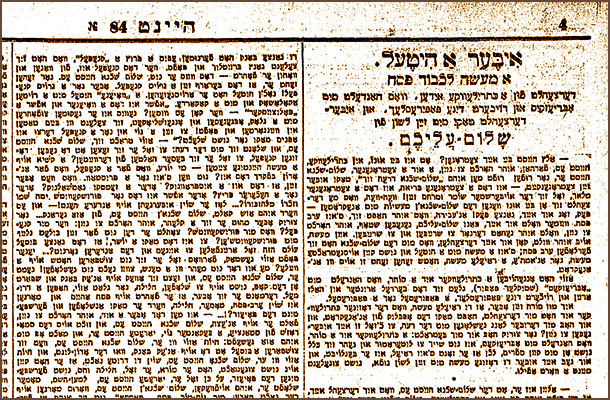Шолом-Алейхем был необычайно плодовитым автором. Писал много, и потому что нуждался в заработке, и потому что был «графоманом» в самом хорошем смысле этого слова — ему просто нравилось писать. Достаточно посмотреть на его письма — многословные, имеющие явно литературную, а не информационную функцию. При таком многописании неудивительно, что а) далеко не все произведения Шолом-Алейхема равноценны, и б) далеко не все они переведены на русский язык. Шолом-Алейхем полнее, чем любой из еврейских классиков, представлен в русских переводах; единственный из них он удостоился многотомного издания — и все‑таки целый ряд его текстов, в том числе и признанные шедевры, до сих пор неизвестны русскому читателю.
К числу таких «пропущенных» шедевров относится и небольшой рассказ «Iber a hitl» («Из-за фуражки»), написанный в традиционном для Шолом-Алейхема жанре монолога. Если «непереведенность» некоторых произведений писателя на русский язык можно объяснить их идеологической «некошерностью» (унюханными советской цензурой крупицами сионизма, национализма, традиционализма и т. п.), то понять, почему «выпал» этот рассказ, решительно невозможно. Может быть, составители собрания сочинений просто посчитали, что еще один юмористический «пустяк» мало что добавит к творческому портрету классика, а шеститомное собрание, как теперь принято говорить, «совсем не резиновое».
Между тем, «Из-за фуражки» — отнюдь не пустяк. Этот поздний текст (написан в 1913 году) представляет собой не только очевидную творческую удачу, но и демонстрирует определенный поворот в писательской манере Шолом-Алейхема. Тогда, в 1913‑м, он был уже тяжело болен и, безусловно, очень знаменит. Но ни болезнь, ни слава не заставляли его почивать на лаврах. Писатель продолжал меняться, искать новые, порой радикальные решения для своей прозы. И по-прежнему чутко реагировал на вызовы времени и литературы. «Из-за фуражки» — образец таких поисков.
Талант Шолом-Алейхема по своей природе — талант не столько прозаика (скажем, романы ему не удавались), сколько драматурга, поэтому вершина его новеллистки — монологи, своеобразный «театр одного актера». В этом жанре он написал множество рассказов. Таким образом, «Из-за фуражки» представляет собой обращение к наиболее характерной для Шолом-Алейхема, можно сказать — канонизированной им в еврейской литературе форме. При этом рассказ содержит в себе и рефлексию по поводу предыдущих «монологов», и их ревизию. Нарратор, как это часто встречается у Шолом-Алейхема, обращается к автору и заявляет: «касриловские мудрецы говорят, а потом толкуют на манер вашего Тевье». Писатель демонстрирует нам, что и он сам, и его герой стали уже частью языка, элементом повседневной речи простых людей. Более того, Шолом-Алейхем удваивает традиционный в его творчестве диалог «писатель — фиктивный нарратор». Теперь нарратор в разговоре с собственным автором ссылается на другое его («автора то есть», как сказал бы герой рассказа «Из-за фуражки») произведение. Это и признание (не без самодовольства!) своего заслуженного места в еврейской литературе, и в то же время вполне модернистский прием.
Шолом-Алейхем как модернист, Шолом-Алейхем в его отталкивании и притяжении к модернизму, прежде всего за счет внутренней, скрытой, но всегда очень напряженной полемики с И.-Л.Перецем, — тема для отдельного исследования. Гротескный финал рассказа «Из-за фуражки» (герой, взглянув в вагонное зеркало и увидев у себя на голове чужую форменную фуражку, понимает, что разбудили не его, а сам он остался лежать на вокзальной скамье) — напоминает скорее о литературе абсурда, чем о реализме. Эта коллизия поддерживает и одновременно полемически осмеивает центральную линию одной из самых знаменитых новелл Переца «Der meshugener batlen» («Сумасшедший завсегдатай синагоги»), в которой герой напряженно размышляет о том, что такое «я» и что именно делает его им самим. Одним словом, Шолом-Алейхем пытается, и не без успеха, «играть» на чужом для него модернистском поле.
Наконец, особого внимания заслуживает язык и слог рассказа «Из-за фуражки». Вопрос о том, можно ли признать шолом-алейхемовские «монологи» сказом — открыт. В целом, на мой взгляд, — нет. Писатель заставляет своих героев говорить вполне литературным, а не сказовым языком, создавая, однако, с помощью набора специальных приемов (слова-паразиты, сбивчивый, запутанный синтаксис и т. п.) определенное впечатление о речевых особенностях персонажей. Это не столько сказ, сколько намек на него.
В самом начале рассказа «Из-за фуражки» Шолом-Алейхем прямо заявляет: «…серьезная история, которую мне рассказал этот касриловский житель, производит-таки впечатление анекдота, и поэтому я долго мучился сомнениями: публиковать ее или нет?» Решающим, пусть и ироническим аргументом за публикацию становиться предъявление «необработанного» языка: «…касриловец… не имеет никакого отношения ни к литературе, ни вообще к книгам… И я передаю вам его историю так, как он ее рассказывал, не прибавив от себя ни единого слова». Конечно, что-то подобное звучало еще в подзаголовке первой истории из цикла «Тевье-молочник»: «Рассказана самим Тевье и передана слово в слово», но стилистика Тевье, как и весь его образ, сугубо вымышленная, литературная. Именно на это намекает нарратор в обсуждаемом рассказе, ехидно указывая автору, что касриловские мудрецы говорят на манер его (то есть им придуманного) Тевье. Жители вымышленной Касриловки говорят «на манер» вымышленного Тевье. В позднем рассказе «Из-за фуражки» Шолом-Алейхем гораздо буквальнее в использовании «чужого слова». Это тоже шаг навстречу модернизму, навстречу 1920-м годам, когда сказ приобрел необычайную популярность.
Наконец, одной из важных черт речи нарратора является изобилие русских и полурусских-полуукраинских слов и выражений, которые в таком количестве в прозе у Шолом-Алейхема прежде не встречались. Это и дань упомянутой выше сказовой манере, и усмешка над не слишком грамотным русским языком касриловских евреев, и фиксация того, что еврейское общество стремительно движется к билингвизму, с уже нарисовавшимся в исторической перспективе вытеснением идиша. Эта проблема неизменно беспокоит Шолом-Алейхема в его позднем творчестве. В том же 1913 году, когда был написан рассказ «Из-за фуражки», Шолом-Алейхем создает цикл фельетонов, продолжающих знаменитую переписку двух супругов — Менахем-Мендла и Шейне-Шейндл. В одном из этих новых писем Шейне-Шейндл жалуется мужу: «Из-за того, что в Егупце все девушки обрусели и говорят по-русски, так нашим (касриловским. — В.Д.) тоже понадобилось обрусеть и балботать по-русски…»
Русский язык приходит в Касриловку вместе с главным символом и орудием модернизации — железной дорогой. Как известно, жители канонической Касриловки «долгое время не знали и о нашей обыкновенной железной дороге, слышать не желали, верить не хотели, что где-то на свете существует поезд» («Город маленьких людей», 1901). Но поезд приехал в Касриловку и привез туда, прежде всего, русский язык — вместе с различными «железнодорожными» словами: например, «расписание» или «пересадка», которые рассказчик иногда с трогательной наивностью поясняет своему автору. Шолом-Алейхем начинает отважно, не боясь «порчи языка», исследовать этот языковой сдвиг. Кроме всего прочего, «Из-за фуражки» — еще и очень социолингвистический текст.
Когда читаешь этот рассказ, понимаешь, что Шолом-Алейхем умер не просто нестарым человеком — он умер начинающим писателем. «Начинающим» в неожиданном смысле этого слова — начинающим очередные поиски, пробующим новые, неизведанные литературные пути-дороги.
Валерий Дымшиц
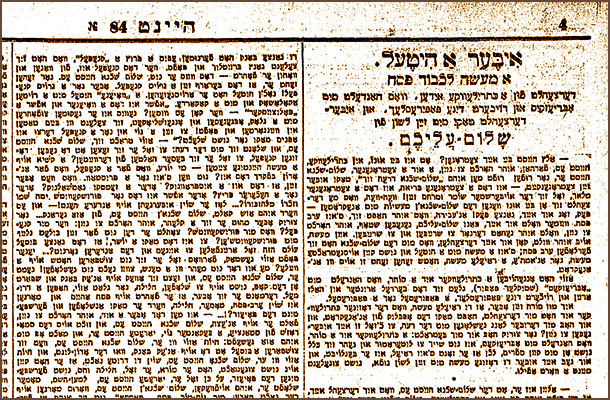
Шолом-Алейхем
ИЗ-ЗА ФУРАЖКИ
История в честь праздника Пейсах, рассказанная жителем Касриловки, который торгует бумажными обрезками и курит тонкие папироски, и пересказанная его языком[1]
— И это у вас называется «рассеянный»? У нас, в Касриловке то есть, тоже имеется, слышите ли, один рассеянный, зовут его Шолом-Шахна, а прозываться-то он прозывается Шолом-Шахна-Кручусь, и именно что из-за своей рассеянности, — вот это всем рассеянным рассеянный, Господи спаси и помилуй! Ой-ой-ой, сколько же у нас рассказывают об этом Шолом-Шахне историй и анекдотов — воз, скажу я вам, воз и маленькую тележку! Как на грех, вы спохватились как раз в канун Пейсаха. Кабы не праздник, я бы дал вам, пане Шолом-Алейхем, материалу, слышите ли, столько, что после этого вам бы только писать и писать. Но одну историю, если хотите, могу вам рассказать прямо сейчас: это о том, что случилось с этим Шолом-Шахной как раз в канун Пейсаха. Это история с фуражкой — и не вымышленная, а самая что ни на есть взаправдашняя, серьезная история, хоть и выглядеть-то она выглядит как какой-то анекдот.
Так лавочник из Касриловки, который торгует бумажными обрезками, начал свой рассказ, поглаживая при этом бороденку и покуривая тонкие папироски, папироску за папироской.
Следует признать, что серьезная история, которую мне рассказал этот касриловский житель, производит-таки впечатление анекдота, и поэтому я долго мучился сомнениями: публиковать ее или нет? Но тут пришло мне на ум: касриловец, торгующий бумажными обрезками, не имеет никакого отношения ни к литературе, ни вообще к книгам, а потому, если он говорит, что это серьезно, ему следует верить. И я передаю вам его историю так, как он ее рассказывал, не прибавив от себя ни единого слова.
***
— Сам-то он, этот Шолом-Шахна то есть, о котором я вам рассказывал, что у нас в Касриловке его называют Шолом-Шахна-Кручусь, — маклер, слышите ли, из тех, что крутятся возле помещиков, пристраивая их имения. Имения! Представьте себе, это только так говорится «имения». Не слыхать что-то было, чтобы Шолом-Шахна пристроил много имений. О чем тут говорить? Не о чем. Но коли человек отирается среди помещиков, владеющих имениями, так и говорит все время о «фольварках», «левадах», «строениях», «черноземе», «молотилках», «упряжи», «лесах», «древесине» и прочем, что к имениям относится.
И тут вдруг выпала, слышите ли, нашему Шолом-Шахне удача — в первый раз с тех пор, как он начал торговать имениями, повезло ему, пристроил имение! То есть пристроить-то, представьте себе, пристроили это имение другие, потому что когда дошло до дележа комиссионных, выяснилось, что раскрутил все дело не Шолом-Шахна-Кручусь, а Драбкин, маклер по имениям из Минской губернии, ужасный ловкач, вместе со своими двумя братьями, тоже маклерами по имениям и тоже ловкачами. Тогда, слышите ли, поднялся вопль великий: «Как это так, человек крутился-вертелся, чуть не весь извертелся, а тут пришли — и вокруг пальца его окрутили!» Короче, Шолом-Шахна, слышите ли, молчать не стал. Поднялся шум, началась тяжба, раввинский суд, свидетельские показания — с трудом обо всем договорились и поделили прибыль. Одним словом, «благословен освободивший», то есть избавились от этого дела.
Заработав несколько грошей, послал наш Шолом-Шахна, слышите ли, жене большую половину денег, чтобы она немножко заплатила кредиторам-кровопивцам, немножко вылезла из нищеты, справила детям обновы к празднику, запаслась всем, что надо для Пейсаха, а поскольку и он — человек, то захотел и себе купить чего-нибудь, и жене с детьми, как положено, привезти на праздник подарки. Время меж тем не ждет, день идет за днем, вот-вот, не успеешь оглянуться, и Пейсах, а потому бежит Шолом-Шахна, слышите ли, на телеграф и шлет домой такую телеграмму: «Еду беспременно паску домой». Он, то есть, едет и точно будет к празднику дома. Легко сказать «еду», да еще и «беспременно», да еще к тому же когда оно «едется». А попробуйте-ка, прошу прощения, хотя бы из любопытства, доехать до нас, до нашей Касриловки то есть, новым поездом, которым нас облагодетельствовали! Райское наслаждение — да и только! Сами заречетесь и внукам своим закажете! Потому что пока вы не прибыли в Злодиевку, вы еще можете полагать, что едете, а вот как прибыли в Злодиевку — тут вам и пересадка, то есть нужно пересесть до Касриловки на новый поезд, которым нас облагодетельствовали, но для этого, согласно расписанию, придется провести на ногах несколько часов, да и то если поезд прибудет без опоздания. И все это когда? Как раз после полуночи, когда на душе тошно, сил нет как хочется спать, а голову преклонить негде — недаром наши касриловские мудрецы говорят, а потом толкуют на манер вашего Тевье: «Благое имя паче елея благого — с вами добре, а без вас лучше»[2]. А смысл тут такой: без поезда было гораздо лучше, чем с поездом.
Короче, прибыв с чемоданчиком в Злодиевку, слышите ли, приготовился наш Шолом-Шахна, который уже до этого не спал две ночи, вынести муки адовы, то есть провести на станции всю ночь — а что ж тут поделаешь? — и принялся искать местечко, куда бы сесть. Куда там! Мест нету! Везде накурено, забито людьми, мрачно, темно. Чтобы преклонить голову, он едва отыскивает свободное местечко на скамье, при том что на ней уже дрыхнет, развалясь и заняв ее почти целиком, какой-то барин в казенном мундире. Кто этот тип в мундире, откуда и куда едет — этого он, Шолом-Шахна то есть, не знает. Но видеть-то видит, что барин, должно быть, в немалых чинах. Прямо-таки в больших чинах! А рядом — фуражка лежит. Военная фуражка с красным околышком и с кокардой. Может это военный, а может — полицейский, кто его знает? Ясное дело, прибыл на почтовых, нажрался да напился, разлегся, как у своего отца на винограднике, и дрыхнет! «Быть гоем да еще к тому же носить мундир, видать, совсем неплохо!» — так про себя думает Шолом-Шахна, и тут ему прямо стукнуло в голову: стоит ли сидеть здесь, подле этого мундира, или лучше держаться подальше? Кто его знает в нынешние-то времена — кому ведомо, что это за мундир, что это за «власти предержащие»? Хорошо, если это только пристав. А что если исправник? Или земский начальник? Или еще какой другой барин поважней? А вдруг это сам Пуришкевич, да сотрутся имя его и память о нем?.. Лучше уж перейти на другую сторону! И у него, у Шолом-Шахны то есть, аж похолодело все внутри от таких мыслей… Но тут он, слышите ли, подумал: а что мне за дело до этого, в мундире? И кто мне Пуришкевич? Да и есть ли такое правило, чтобы все что ни на есть блага мира сего доставались кому-нибудь одному, а другому — шиш?.. Если барин этот так сладко дрыхнет, так почему же ему, Шолом-Шахне то есть, не прикорнуть хоть на минутку? Он ведь тоже человек, который к тому же две ночи не спал! Садится он, Шолом-Шахна то есть, на край скамьи — и приклоняет голову, но не для того чтобы, не дай бог, заснуть, а так только — подремать. И тут вспоминает, что едет он домой на Пейсах, а завтра уже канун праздника, так что если заснет, то может, не дай бог, опоздать на поезд!.. Но уж такой он, слышите ли, человек, что коль скоро ему, Шолом-Шахне то есть, запала в голову мысль, так он ищет станционного сторожа, знакомого мужика, Ерёмой его зовут, и договаривается с ним вот о чем: он, Шолом-Шахна то есть, слегка прикорнёт на краю скамьи, той самой, на которой лежат «власти предержащие», и поскольку он, Шолом-Шахна то есть, вот уже третью ночь не смыкает глаз, то боится, не дай бог, опоздать на поезд, а потому должен он, Ерёма то есть, ради бога, если он, Шолом-Шахна то есть, заснет, его разбудить, потому что завтра вечером у нас праздник, у нас Пейсах — «Паска», так он ему объясняет на мужицком наречии и сует ему в лапу, и говорит ему еще раз:
— Паска, Ерёма, чи ты понимаешь, мужицкая твоя башка, наша Паска!
Мужик, понятное дело, принимает монету, кладет ее, слышите ли, в карман и отвечает: дескать, не извольте беспокоиться, потому что как только придет известие о поезде, так сразу разбужу. Тут он, Шолом-Шахна то есть, берет и садится, сперва на краешек, потом поплотней, чемоданчик, чтоб не сперли, пристраивает рядом с собой, и сам устраивается, чем дальше, тем лучше, прикрывает глаза с мыслью, что, понятное дело, только вздремнет, ничего больше. Потом он поджимает одну ногу, потом вторую — и так вот потихонечку засыпает. Как вы думаете, как? Еще как! Как Бог велит: голова запрокинулась, фуражка с головы свалилась на землю, и мой Шолом-Шахна, слышите ли, начинает храпеть на чем свет стоит — что вы хотите, живой человек, две ночи не спал, что ж тут удивительного?
Заснул — об этом он сам, Шолом-Шахна то есть, потом рассказывал — и снится ему странный сон, совершенно запутанный: будто едет он-таки, слышите ли, на Пейсах домой, а куда ж еще? Только не на поезде, а на мужицкой подводе едет, и везет его знакомый крестьянин по имени Иван Злодий. Лошаденки тащатся, едва-едва ногами перебирают. Шолом-Шахна от расстройства тычет крестьянина в спину:
— Шоб тоби хвороба, Иван-сердце! Как ты тащишься! Забыл, Иван Злодий, что у нас вот-вот Пейсах — Паска наша еврейская?
И раз он его так, и два, и три. Крестьянин, понятное дело, молчал-молчал, а потом как хлестнет лошаденок от всей души, лошаденки-то, слышите ли, и понеслись как черти, с горы да под гору, фи-фа-фу! С Шолом-Шахны аж фуражка слетела, а через минуту его так растрясло, что он закричал крестьянину: «Иван-сердце, держи кони!» Хвать себя за голову обеими руками и давай вопить, что потерял фуражку. Как он въедет-то в город без фуражки? Но, кричи — не кричи, крестьянин погоняет лошаденок, и лошаденки несутся. Вдруг — тпррру! — стали, слышите ли, как раз посреди поля. Что случилось? Ничего.
— Вставай, — говорит крестьянин, — вставай, пора.
Чего пора? Куда пора? — не понимает Шолом-Шахна. Просыпается, продирает глаза и хочет идти, но чувствует, что на нем нет фуражки. Видать, сон-то был вещим. Как он сюда попал? Но Шолом-Шахна, слышите ли, быстро очухался, узнал крестьянина, который оказался совсем не Иваном Злодием, а вовсе даже Ерёмой-сторожем! Вспомнил, что находится в Злодиевке на станции и едет на Пейсах домой, и что ему нужно бежать в кассу за билетом, да как побежишь-то? Фуражки нет. Чемоданчик есть, а фуражки нет! Где может быть фуражка? Шарит он вокруг себя, шарит, нашаривает и напяливает на себя фуражку, но не свою — а чью? А тех самых «властей предержащих», фуражку с красным околышком и с кокардой, и, слышите ли, идет прямо в кассу, за билетом то есть. А у кассы давка, все друг на друга лезут! Боится он, Шолом-Шахна то есть, вдруг, не дай бог, уже все билеты проданы, и протискивается сквозь толпу с чемоданчиком. Видит народ красный околышек с кокардой и расступается.
— Вам куда, ваше благородие? — спрашивает у него кассир.
Удивляется Шолом-Шахна: что это он вдруг стал благородием? И это его даже слегка раздражает: с чего это гой насмехается над евреем? Говорит он, Шолом-Шахна то есть, кассиру:
— В Касриловку.
Снова спрашивает его кассир и глядит при этом прямо на околышек и на кокарду:
— Каким классом, ваше благородие?
Понятно, что Шолом-Шахна раздражается еще больше и хочет отбрить кассира, на этот раз уже по-настоящему, как следует, чтобы у гоя и в мыслях не осталось привычки насмехаться над евреями. Но снова, слышите ли, думает: «Народ наш — в изгнании, промолчим!» И просит дать ему билет третьего класса. Удивляется кассир и спрашивает еще раз:
— Какой класс?
Тут уж Шолом-Шахна, похоже, сердится не на шутку и заявляет со всей определенностью:
— Третий!
А кассир думает себе: «Ну третий так третий…»
Короче, получив билет, подхватывает он, Шолом-Шахна то есть, свой чемоданчик и бросается сломя голову в толпу евреев и, не рядом будь помянуты, мужиков. Ищет вагон третьего класса. Народ, видя околышек с кокардой, понятное дело, вежливо расступается, пропускает «власти предержащие». Шолом-Шахна даже удивляется, но идет дальше и встречает возле вагона кондуктора с фонарем.
— Здесь третий класс? — спрашивает его Шолом-Шахна и выставляет уже ногу, чтобы подтолкнуть чемодан в вагон.
— Здесь, ваше благородие! — отвечает ему кондуктор, но внутрь не пропускает. — Битком набито, ваше благородие, народу, как сельдей в бочке, яблоку негде упасть! — Забирает у Шолом-Шахны его чемоданчик, слышите ли, и говорит ему: — Пойдемте со мной, ваше благородие, я вам дам место.
«Что за напасть? — думает он, Шолом-Шахна то есть. — Ваше благородие да ваше благородие!». А сам все волнуется за свой чемоданчик, боится, как бы из-за «вашего благородия» не остаться ему без чемоданчика, и бежит за кондуктором с фонарем. Меж тем кондуктор с фонарем ведет его в вагон второго класса, но и вагон второго класса тоже битком набит, голова к голове, яблоку негде упасть.
— Пойдемте дальше, ваше благородие! — говорит ему кондуктор, снова подхватывает чемоданчик и идет себе дальше, а Шолом-Шахна — за ним.
«Куда он меня ведет?» — думает Шолом-Шахна, продолжая при этом ломать себе голову над «вашим благородием» и не спуская глаз с чемоданчика — это для него самое важное. И вот они уже в вагоне первого класса! Там кондуктор ставит чемоданчик, берет под козырек, раскланивается с Шолом-Шахной, а Шолом-Шахна — с ним, и он, Шолом-Шахна то есть, остается один.
Оказавшись один-одинешенек в целом вагоне, начинает Шолом-Шахна разбираться, слышите ли, что же с ним произошло. Не понимает, за что ему вдруг выпал такой почет: вагон первого класса… под козырек… ваше благородие!.. Не потому же, что он провернул дело, пристроил имение?.. Был бы почет от своих, от евреев то есть, было бы еще как-то понятно, но ведь — от гоев! Кассир! Кондуктор! Неужто ему все это снится?.. И тут Шолом-Шахна, слышите ли, потирая лоб, глянул мельком в зеркало — и чуть не окочурился от страха! Он увидел, слышите ли, те самые «власти предержащие»! Он их узнал! «Пусть все, что мне приснилось этой ночью, и той ночью, и за весь год, падет Ерёме на голову, и на руки его, и на ноги его! Вот ведь тупой мужик! Двадцать раз ему было сказано и заплачено. Он должен был разбудить к поезду меня, Шолом-Шахну, а он идет и, холера ему в бок, будит "власти предержащие", а Шолом-Шахну оставляет лежать на скамье! Горе тебе, Шолом-Шахна, ты в этом году, кажется, проведешь Пейсах в Злодиевке, а не у себя дома!..» И, не долго думая, хватает он, Шолом-Шахна то есть, свой чемоданчик и, слышите ли, бац из вагона обратно на вокзал и бегом к той самой лавке, на которой лежит Шолом-Шахна, и давай будить Шолом-Шахну, потому что паровоз может, не дай бог, вот-вот дать свисток и освистать Шолом-Шахну вместе с его Пейсахом! Так оно и случилось: как только Шолом-Шахна выпрыгнул со своим чемоданчиком из вагона, тут же, слышите ли, раздался свисток, потом еще один, и понеслось — наше вам с кисточкой!
***
— Хотите знать, что было дальше? — так закончил с улыбкой свой рассказ касриловец, торгующий бумажными обрезками, и закурил новую папироску, тонкую, как соломинка. — Что там было дальше, уже не важно. Главное, что Пейсах у нашего Шолом-Шахны-Кручусь из-за его рассеянности вышел ужасным, пришлось ему вытерпеть оба сейдера у каких-то евреев из Злодиевки. Ладно, Пейсах есть Пейсах — но то, что началось после Пейсаха, было еще хуже: во-первых, у него, у Шолом-Шахны то есть, имеется жена, слышите ли, — что я вам буду объяснять? У вас имеется жена, у меня имеется жена, у всех — жены, и всем известно, что такое жена… Могу вам сказать только одно: серьезная она женщина — эта жена Шолом-Шахны! И взялась она за него тоже всерьез. У нее не было к нему претензий ни за то, что он не приехал домой на праздник, ни за красный околышек с кокардой — нет! Всё это она ему пока что простила, за это она с ним как-нибудь потом посчитается. Все ее претензии к мужу были только из-за телеграммы. И не столько даже из-за телеграммы, слышите ли, сколько из-за слова «беспременно». Какого черта он вдруг решил обогатить казну: «Беспременно еду паску домой»? И вообще, как может нормальный человек написать в телеграмме «беспременно»?.. Не помогли ему никакие отговорки с объяснениями. Она его гнобила как могла, и нельзя сказать, чтобы была вовсе неправа: она его так ждала! Но… ничего. На то она и жена, чтобы гнобить мужа.
Однако все это ерунда по сравнению с тем, что ему, Шолом-Шахне то есть, досталось от города нашего, от Касриловки то есть, потому что еще прежде чем Шолом-Шахна вернулся домой на четвертый день Пейсаха, уже весь город, слышите ли, знал об этой истории с Ерёмой, и с «властями предержащими», и с красным околышком, и с кокардой, и с кондукторским «вашим благородием» — всё знал! Хотя он сам, Шолом-Шахна то есть, все начисто отрицал, утверждая, что это все насмешники придумали, касриловские насмешники — верно, делать им больше нечего, других забот у них нету! А задержался он, дескать, потому, что ему пришлось поехать в другую сторону, чтобы взглянуть на имение с лесом. Какое там имение? Что еще за лес? Прошлогодний снег! Все так и покатывались со смеху! Пальцем на него показывали! Некоторые спрашивали: «Как вы себя чувствовали, реб Шолом-Шахна, в фуражке с красным околышком и с кокардой?»
Другие хотели знать: так ли приятно ехать в первом классе, как об этом рассказывают?.. Дети-озорники бегали за ним всей, слышите ли, оравой и кричали: «Ваше благородие! Ваше высокоблагородие!! Ваше высоко-высокоблагородие!!!»
Шутить изволите с Касриловкой?
Перевел с идиша Валерий Дымшиц
[1] Рассказ впервые был напечатан в варшавской газете «Haynt» («Сегодня») за 8(21) апреля 1913 года. На русский язык ранее не переводился.
[2] То есть жители Касриловки на манер героя Шолом-Алейхема, Тевье-молочника, пародийно «переводят» библейскую цитату (Еккл. 7:1), но в данном случае — не на идиш, а на почти правильный русский язык.