|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 97 / Апрель 2012 In memoriam
|
|
||||||||
|
Асар Эппель (1935–2012)
…История такова: в пятидесятые годы прошлого века жил в Москве «непечатный» молодой поэт. В какой-то момент он оставил собственное творчество ради ремесла поэта-переводчика — и в этой области достиг выдающихся успехов. На пятом десятке стал «для себя» писать прозу — и ею-то и остался в литературе.
Про кого это? Про Асара Эппеля? Про его друга Андрея Сергеева? Про еще одного его друга, Сергея Вольфа? В последнем случае, правда, ситуация была зеркальной: начинал Вольф как прозаик, «социализировался» как детский писатель, в зрелые годы состоялся как прекрасный поэт, и происходило все это не в Москве, а в Ленинграде, но в сущности ведь история та же?
Нет. История на самом деле у каждого своя.
Имя Эппеля я узнал в начале восьмидесятых. Мне было семнадцать — уже достаточно, чтобы понимать: оригинал иноязычного стихотворения и его перевод на русский — вещи совершенно разные. И вот на глаза попались стихи американского поэта-священника еще колониальной поры Эдварда Тейлора, переведенные языком русской поэзии приблизительно той же (чуть более поздней) поры — языком духовных од Ломоносова и его последователей. Вообще-то это не всегда плодотворный путь: в сущности, переводчик перелагает с чужого наречия на чужое, стилизует, остраняет текст… Но в данном случае именно этот путь позволил оживить метафизику Тейлора. Так запомнил я фамилию Эппель. Тогда же прочитал и его переводы старинной польской поэзии — с сохранением экзотического для русского слуха силлабического стиха. Позднее, в девяностых, Эппель, занимаясь Бруно Шульцем, попытался передать по-русски структуру польской фразы. Это уж нарушение всех канонов: то, что характерно для определенной литературы и не является проявлением авторской индивидуальности, принято (по крайней мере в случае европейских литератур Нового времени) заменять типичными для русского языка или стиха ходами. Но Эппель был виртуозом «неправильного» перевода, так же как Сергеев — «правильного».
В то время, когда я читал Тейлора, Эппель уже написал свою первую и главную книгу — «Травяная улица». Главную, потому что все последующие — только ее расширение, дополнение к ней, более или менее удачное (с постепенным убыванием лирического дыхания и углублением рефлексии).
Сейчас, через три с лишним десятилетия, понятно, что эта книга — из вершинных явлений русской прозы второй половины XX века. Но свет она увидела лишь в 1994 году. Чуть раньше было напечатано несколько рассказов — в альманахе «Апрель» (1990), петербургском сборнике «Камера хранения» (1991), «Новом мире»... «Знаменитым писателем» (пусть в ограниченном кругу профессионалов и знатоков) Эппель оказался в самом конце жизни.
Интересно, как сложилась бы жизнь Асара Исаевича — и, что важнее, как сложились бы судьбы русской литературы, — если бы «Травяная улица» увидела свет своевременно? Это было не так уж нереально: стремление к живописанию (иногда сентиментальному) малой родины тогда, в конце 1970-х, становилось повальным, фолкнеры, сибирские, абхазские и проч., росли как грибы. Правда, на еврейскую тему существовала «процентная норма», исчерпанная как будто писателем-лауреатом Анатолием Рыбаковым, но ведь у Эппеля евреи составляли только часть персонажей. «Суровая правда жизни»? В меру она допускалась, и нельзя сказать, что в «Травяной улице» переизбыток совсем уж непроходимой «чернухи». Стиль? Здесь тоже кое-какое разнообразие дозволялось — в рамках «реалистического метода». Но, конечно, внутренняя свобода, отсутствие всякого желания расставлять оценки бытию, судить его, оправдывать, приспосабливать к делу — все это для советского писателя оставалось немыслимым. А с «тамиздатом», вероятно, Эппель связываться не захотел.
Проблема вот еще в чем: мир, возникающий под пером Эппеля, — не интеллигентский и не «народный» (то есть не крестьянский). Это мир мещанства, внеидеологический, не поддающийся мифологизации и за то интеллигентом ненавидимый. Ненавидимый, даже если любимый (вспомним финал горенштейновского «Бердичева»). Причем в данном случае это не городское мещанство, не столичное и не местечковое, а слободское. «Травяные улицы» на границах Москвы, в получасе ходьбы от последней трамвайной остановки.
Но (и это еще один важный поворот) эппелевские слобожане — не потомственные. Они принесены сюда волнами русской истории… Откуда? Евреи, понятно, из местечек. «Тат» Самсон Есеич (то есть на самом-то деле он, конечно, горский еврей, но Эппель считает, что это «кавказская народность, исповедующая Моисеево Пятикнижие», — хорошо, допустим, можно сказать и так; постовой называет его «армяшкой») — из Баку. Тетя Дуся, вероятно, из деревни. Церемонный поляк-сапожник и пара француженок, мать и дочь, — «бывшие» люди, городские. Ольга — девушка из Полесья, побывавшая замужем за монгольским министром. Есть и старообрядцы, и татары. И всех их собрал подмосковный барачный поселок.
Точнее, какой там поселок — не шутите! — студгородок. Кампус, можно сказать.
Барак создается впопыхах и наспех. И всегда для решительных действий. Как баррикада, прямая его предшественница. Но баррикада может пасть, и тогда ее разберут, а барак никогда не падет, и никогда его не разберут, что и свидетельствовал наследник баррикад — Пушкинский студгородок. Выполнив когда-то свою паническую миссию, сделавшись кровом неведомым рабфаковцам, он, исторгнув затем доучившихся в мир свершений и песен Дунаевского, не пал и не был разобран, а заселился: и недоучившимися, и всякой сволочью, и добрыми людьми. Причем несдвигаемо и навсегда. <…> Барак есть продолговатое двухэтажное строение с двумя входами по фасадной стороне, двумя деревянными лестницами на второй этаж и низко сидящее на грунте. Это плохо выбеленная постройка под черного цвета толевым покровом, в которой ходят, сидят, лежат и из которой выглядывают люди. <…> …На каждом этаже — полутораметровой ширины коридор, а по обе стороны — выходящие в этот коридор, протянувшиеся вдоль своих коек комнаты, а в комнатах людей, детей и пожитков — битком. Коридор, он же кухня, совершенно бесконечен, ибо под потолком его, коптя, как керосинки, горят одни только две желтые десятисвечовые лампочки, а кошмарные в чаду и стирочном пару светотени от многих различных предметов создают без числа кулис и закутков, и все размыто сложного состава вонючим, мутным воздухом. В общем, чад и смрад, а по стенам — корыта, лохмотья на гвоздях, корзины из прута, двуручные пилы, завернутые в примотанные шпагатом желтые, пыльные и ломкие газеты, на полу — сундук на сундуке, крашенные белым столики с висячими замками, табуретки, волглые и отчего-то мыльные, на каковых тазы под рукомойниками.
Не все жители этого барачного мира в прямом смысле слова живут в бараках. У кого-то имеются убогие частные домовладения с огородами, кто-то в чужом доме снимает угол; неудачники ютятся в сараях, в постройках, достойных бразильских бидонвилей, в совсем не бразильском климате. Но это и не концлагерь, где все озабочены лишь выживанием, не мир обреченных и изгоев (здесь такие есть — например, несчастный бывший нэпман и его жена из рассказа «Сидящие на венских стульях», но их меньшинство). В основном же — люди с ремеслом и некоторым самоуважением, пытающиеся окружить себя подобием уюта, даже какой-нибудь жалкой роскошью, вроде зеркального шкафа. Однако в баню ходят раз в две недели, а дети растут без игрушек.
В общем, ничего эксклюзивного, целый слой русской культуры того поколения вдохновлен этой немудрящей жизнью — начать хотя бы с «лианозовской школы» поэзии и живописи, с Кропивницкого, Холина, Сатуновского, раннего Сапгира, раннего Оскара Рабина… Да тот же Андрей Сергеев («Альбом для марок»), коли на то пошло. Дело не в том, что Эппель писал об этом — а в том, как он писал.
Когда в июле на обочинах булыжного тракта образуется по щиколотку пыли, мягкой и горячей, как курортная процедура, а зернистые черепа булыжников жестки даже на взгляд, а появившиеся весной в межбулыжьях былинки давно сухи и торчат или из битых стекляшек, или из крупного зернистого же песка, тогда лошади, попадающиеся тут много чаще, чем трехтонки, сходят с булыжника и — пых-пых — как в пух, вбивают свои ломовые заскорузлые копыта в пушистую пыль на обочине, и два колеса продолжают звучать по булыжнику, а два колеса начинают молчать на земляной обочине, и езда становится глуше, хотя ведру на задке телеги висеть становится трудней — оно с назойливостью Ньютона настаивает на земном тяготении, сохраняя вертикаль и от этого брякая обо что-то подтележное, обо что не брякало бы, продолжай телега ехать без наклона.
Как одно сочеталось с другим: бедность описываемого мира с роскошеством слога,пышной медлительностью впечатлений, избыточностью синтаксиса? «Стиль баракко» — это была распространенная хохма, а Эппель и впрямь соединил барак с барокко. Что же придает такому соединению жизнеспособность?
Может быть, то, что пребывание в ничтожестве Травяной улицы не исчерпывает судьбы никого из героев. Каждый из них несет память о своем прошлом, о своей настоящей родине. Даже незадачливый Семен, пребывающий в счастливой амнезии, о чьем — видимо, ушедшем с дымом, канувшем в расстрельные рвы — родном доме напоминает лишь жалобная песенка «Ой-ой, купите папиросы!». И — что не менее важно — у людей Травяной улицы есть будущее. Не только в том смысле, что некоторые из здешних детей выбьются в нездешние люди, станут инженерами, как те былые рабфаковцы, — а один так даже и писателем. Сам «студгородок» все-таки существует в известной динамике. Не случайно писатель столь часто фиксирует внимание на признаках перехода этого мира «из каменного века в бронзовый», на местных умельцах, изобретателях, таких как гениальный тат Самсон Есеич, самостоятельно сконструировавший невиданную на Травяной улице вещь — холодильник, или мальчик Леонид. Но в бронзовом (или уже в железном?) веке «травяные улицы» будут поглощены городом, и Останкино (именно там и располагалась эппелевская слобода) станет ассоциироваться с телебашней — олицетворением позднесоветских «высоких технологий».
Есть замечательное стихотворение Михаила Кузмина «Переселенцы» (1926):
Чужое солнце за чужим болотом Неистово садится на насест, А завтра вновь самодержавно встанет, Не наказуя, не благоволя. Как старомодно ваше платье, Молли! Как опустился ваш веселый Дик, Что так забавно говорил о боксе, Пока вы ехали на пакетботе! Скорей в барак! дыханье малярии С сиреневыми сумерками входит В законопаченные плохо щели, Коптит экономическая лампа, И бабушкина библия раскрыта…
Кузмин пишет о первых англичанах, переселившихся в Новый Свет (о тех, среди кого жил и для кого творил Эдвард Тейлор), но имеет в виду, конечно, людей своей страны и своего поколения, пустившихся в путь из одной цивилизации, прекрасной и погибшей, в другую, неведомую, через барак на чужом болоте. Об этом же пишет Эппель. И именно потому, что в жизни его героев присутствуют прошлое и будущее, она полна значительности и — тут уж особенность авторского зрения — неотделима от бесконечного умирания/воскрешения живой материи. И, конечно, от «большой истории», при том, что жители здешние связаны с ней, конечно, в основном страдательно — отсюда, как отовсюду, попадают на войну и в лагеря, а в какой-то момент фронт будет проходить в считанных километрах. Так обстоит дело для всех граждан Травяной улицы. Но для евреев этот переходный статус оказывается в каком-то смысле привычным — генетически привычным. Как будто не бараки Подмосковья, а шатры в пустыне. Как будто вернулись на пепелище из Вавилонского плена. Пришли в полудикую Галицию из рейнских верховий. Изгнаны из Испании. Бежали от Хмельницкого. Мир в тысячный раз начинается заново. И какая-нибудь жалкая мещанская драма (сосед, режущий корову, пообещал соседу, страдающему куриной слепотой, печенку, якобы полезную для глаз, да обманул, а тот, обиженный, написал на владельца неучтенной коровы донос) оборачивается Библией. Не только от «большой», но и от Священной истории «сладкий воздух» подмосковной слободы, Йокнапатофы писателя Эппеля, оказывается неотделим. |
   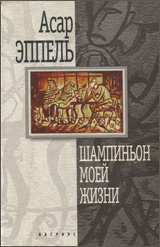        |



