|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 89 / Декабрь 2010 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Алексей Сёмкин. Последний романтик эпохи постмодернизма. О творчестве Александра Мелихова. Звезда, 2010, № 3
Тот случай, когда хочется ограничиться цитатой:
«Один современный писатель обвинял Мелихова в узости, схематичности, сведению всего и всегда к одному и тому же, зацикленности на одной теме, предсказуемости и повторяемости. Всё и всегда о мечте-грезе. Решительно не согласимся. Если так, совершенно непонятно, что же тогда помогает Мелихову, освободившись от своей idée fixe, переходить к общечеловеческим размышлениям, таким грандиозным обобщениям, как, например: “...ни одна оспариваемая вещь не может быть названа бесспорной в одностороннем порядке”?
Все объясняется просто. Схема схемой, обобщение и в самом деле рифмуется с упрощением, но каков уровень обобщения! На таком уровне при последовательном и добросовестном подходе интересные и важные результаты гарантированы. <…>
Так что неправ наш помянутый выше уважаемый писатель, это не скука и не узость. Это такой ключик, которым открываются очень многие двери. Практически все».
Вот так. Результаты гарантированы. И — практически все двери. Иронизирует ли рецензент — или искренне выражает свое приятие творчества Мелихова именно в такой форме?
Александр Мелихов. Изгнание из ада. Роман. Новый мир, 2010, № 6
К человеку, вступающему в пенсионный возраст («Я даже остановился в дверях, страшась выйти в свет, где мне будет, я уже понимал, стыдно смотреть людям в глаза, — я буду невольно читать в них гадливое сострадание: пенсионер, пенсионер, пенсионер… Только выучился не съеживаться при слове “еврей”, и снова позорное клеймо!.. Теперь уже до конца»), является его покойный отец — школьный учитель, который сообщает, что «провел все эти годы в аду», куда попал, поскольку изменил своему истинному, высокому предназначению. Сейчас ему предстоит окончательно исчезнуть, ибо умер последний человек, знавший его настоящим, — подруга по рабфаку.
Пафос романа — жестко антишестидесятнический.
«Папочка, ты ли это радостно крикнул мне “Человек в космосе!”, столкнувшись со мною у калитки в каменно-слоеный школьный двор? Но я же и сейчас вижу, каким счастьем вспыхнули в тот миг твои очки!.. Ведь именно тогда я понял, чему я отдам свою восхитительную жизнь, — космосу! И не приснилось же мне, как срывался твой голос, когда ты живописал мне ледяной бросок наших солдат, остановивших танковую группу Гота у речки Мышковы?.. <…> И когда же началось это кисляйство?.. Прорвались в космос — лучше бы понастроили больниц, взяли Берлин — сколько людей зря положили… Оно, может, и так, но если говорить об одних только смертях, от бессмертия ничего не останется. <…> Ты думал, что борешься со сталинизмом, а на самом деле боролся с героизмом. И победил только самого себя».
По мнению Мелихова, «еврей в России может выжить лишь в роли аристократа». Превращение из «аристократов» в «интеллигентов», обращающих внимание не на свершения и подвиги, а на жертвы, издержки, на «оскомину» — трагедия нескольких поколений русско-еврейской интеллигенции. К сожалению, этой идее (с различными вариациями повторяющейся во многих книгах Мелихова) подчинена вся структура романа. Отсюда — неизбежная схематичность сюжета, который порою служит лишь небрежным обрамлением публицистических пассажей.
Александр Мелихов. Обыкновенный Холокост. Иностранная литература, 2010, № 5
Рассуждения о книге Примо Леви «Канувшие и спасенные». Ее автор, итальянский писатель и ученый-химик, бывший узник Освенцима, покончивший с собой в 1987 году, задавался «проклятыми» вопросами: запомнит ли мир ужасы Холокоста, извлечет ли из них уроки? Рецензент дает на эти вопросы безотрадно-отрицательный ответ. На его взгляд, «принудительное сострадание», практикующееся в европейских странах, может иметь лишь обратное воздействие. Человек неизменен. Не существует «таких жестокостей, на которые люди не решаются, когда чуют опасность для своих спасительных грез». И потому «в кризисной ситуации не нужно подвергать людей экзамену на великодушие, терпимость и самокритичность — они еще ни разу его не выдержали…»
Давид Маркиш. Спасение Ударной армии. Рассказы. Октябрь, 2010, № 3
Два рассказа израильского прозаика. Первый — анекдот из жизни репатриантов (уроженец города Электроугли, называющий себя «толстовцем» и мечтающий о собственном участке земли, покупает в Израиле землю на кладбище и разводит там огород), второй — тоже анекдот из времен Войны Судного дня (солдатам ЦАХАЛа приходится сдать кровь, чтобы спасти армию противника, в которой начался мор). Материал писателю хорошо известен (не в пример петровской России или биографии Бабеля), написаны рассказы живо.
Михаил Макаров. Иудейские древности. Рассказ. Октябрь, 2010, № 4
Повествование о стодвенадцатилетней еврейской старухе из Марьиной Рощи и ее многочисленных родственниках — с густыми этнографическими подробностями, с обилием более-менее выразительных и более-менее правдоподобных анекдотцев, с претензией на философичность. Финал таков:
«Она легла поудобнее, сложила руки на груди и тихо умерла. И настенные часы, сломанные полвека назад, показывали, как всегда, без четверти десять. Шуренция протяжно завыла, но дождь барабанил в окно, и ее никто не услышал. Она не стала никого звать, только прикрыла мертвое лицо Иды простыней, осенила новопреставленную крестным знамением, попыталась вспомнить хотя бы одну православную молитву, но, так и не вспомнив, принялась на древнееврейском читать заупокойный кадиш».
В том, что русская советская старуха, разумом почти ребенок, прожившая всю жизнь среди евреев, не помнит православных молитв, удивительного мало, но вот ее способность прочитать кадиш вызывает-таки сомнения…
Аркадий Ковельман, Ури Гершович. Бегство от логоса: к пониманию раввинистической герменевтики. Новое литературное обозрение, 2010, № 102
Историко-философская статья, в которой неспециалисту понятна, прежде всего, постановка проблемы: «В традиционной… иудейской среде, отворачивающейся от западной мысли, сохраняется средневековая философско-теологическая парадигма, где адаптированный аристотелизм дополняется тем или иным объемом пронизанных неоплатонизмом каббалистических идей. Это сочетание порой порождает весьма своеобразные учения. В то же время и их “инаковость” по отношению к западной философской традиции неочевидна. Но есть тексты, в которых “инаковость” еврейской культуры бросается в глаза. Это талмудическая литература, созданная во II–VII веках новой эры в римской Палестине и сасанидском Ираке (Вавилоне в еврейской традиции). Сталкиваясь с этими текстами, европейское сознание испытывает нечто вроде культурного шока. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что шок порождается не древностью текстов, а особенностями дискурса».
Разговор о принципиальном отличии талмудической онтологии и герменевтики от античной и следующей за ней христианской традиции требует от авторов привлечения самого разнообразного материала. В статье упоминаются не только Анаксагор и Филон, но и Хайдеггер, Деррида и даже Осип Мандельштам.
Михаил Крутиков. Штетл между фантазией и реальностью. Новое литературное обозрение, 2010, № 102
Статья профессора Мичиганского университета — анализ отражения феномена «штетла» в еврейской литературе, науке и публицистике от Исроэля Аксенфельда, первого романиста, писавшего на идише, до этнографических исследований последних лет — открывает цикл материалов «В поисках “настоящего еврейского штетла”» в этом номере «НЛО».
Дан Мирон. Литературный образ штетла. Новое литературное обозрение, 2010, № 102
Классическая работа крупнейшего израильского исследователя еврейской литературы. Сравнивая художественные произведения с документальными и мемуарными источниками (например — «С ярмарки» Шолом-Алейхема и воспоминания его брата), Мирон приходит к выводу: «…в еврейской литературе должна была существовать влиятельная традиция, возможно даже норма, требующая радикальной иудаизации образа восточноевропейского местечка и представления его как исключительно еврейского. Лишь после этого оно могло быть осмеяно, разоблачено как отсталое и реакционное или же, наоборот, представлено романтически и ностальгически, как квинтэссенция духовности и ядро осажденной цивилизации, в котором, невзирая на трудности, царили внутренняя гармония и единство».
В описаниях штетла у еврейских писателей Мирон видит несколько повторяющихся мотивов-метафор, помещающих его в метаисторическое, библейское пространство еврейской истории: пожар, путешествие (исход), прибытие гостя, поиски клада. Такой мифологизированный штетл становился еврейским микрокосмом, «крошечным Иерусалимом в изгнании».
Дебора Ялен. «Так называемое “еврейское” местечко»: штетл, большевистская идеология и советская этнография в межвоенный период. Новое литературное обозрение, 2010, № 102
Статья Деборы Ялен — своего рода продолжение работы Дана Мирона. Речь идет о политике советской власти в отношении местечка как географического и этнографического понятия и об употреблении этого слова в официальном советском дискурсе. Автор отмечает: «В рабоче-крестьянском государстве, активно преобразующем экономический и географический ландшафт старого режима, не было места старому “еврейскому торговому городу” — уникальной форме поселения, относящейся еще к Польско-Литовскому государству. Проект модернизации еврейского населения нового советского государства включал, среди прочего, искоренение штетла как “вечного посредника между городом и деревней”. <…> Таким образом, теоретически прежний “еврейский вопрос” старого режима был лишен своего религиозного и расового антисемитского содержания и переформулирован как проблема еврейской экономической реабилитации (“оздоровления”)».
После Великого перелома о местечках стали говорить в прошедшем времени. Однако на практике социологи и этнографы вынуждены были и позднее принимать в расчет этот особый тип поселения, с его уникальными национально-культурными особенностями.
Александр Иванов. «Евреи в царской России и в СССР» — выставка достижений еврейского хозяйственного и культурного строительства в Стране Советов. Новое литературное обозрение, 2010, № 102
Описание подготовки и содержания «еврейской» выставки в Ленинградском государственном музее этнографии в 1939 году. Статья прекрасно передает атмосферу, в которой вообще происходили такого рода «национальные» выставки в СССР в тридцатые годы, и стремление музейных деятелей к выработке новой методологии, которая позволяла отойти от «экспонатного фетишизма» и полностью подчинить работу идеологической задаче. Впечатляет и книга отзывов, в которой иные граждане позволяли себе бесстрашно критиковать политику партии и правительства, в том числе и «биробиджанский проект».
Валерий Дымшиц. Мани Лейб. Нежин. Новое литературное обозрение, 2010, № 102
Подробнейший исторический, этнографический и филологический построчный комментарий к стихотворению классика еврейской поэзии XX века, посвященному его родному городу.
В стихотворении комментатор видит воплощение новой модели Идишланда (идеализированного, по крайней мере опоэтизированного восточноевропейского местечкового хронотопа), сложившейся в американской еврейской литературе и резко отличающейся от прежнего «местечкового мифа», в котором никаким нееврейским реалиям не было места, — мифа, о котором говорит Дан Мирон.
«Конечно, писатели предыдущего поколения были готовы “допустить” в свои работы нееврейскую культуру в ее высоких проявлениях. Например, Гоголь очень важен для Шолом-Алейхема, прямо или косвенно цитирующего его в своих произведениях. Но бытовой славянской, “мужицкой” культуре и ее носителям, так же как популярным христианским символам, почти не было места в еврейской литературе XIX века». В новом Идишланде, напротив, «легитимными, то есть “еврейскими”, оказывались не только аисты, но и Спасский собор, и пьяные мужики, и свиньи. Голоса евреев и неевреев, людей, животных и птиц, создавая полифонию Нежина, уравнены поэтом». Приводя аналогии из мира изобразительного искусства, комментатор напоминает об обилии церковных куполов на гравюрах Юдовина и картинах Шагала.
Леонид Гомберг. Утраченный удел Саккариаса Кордовина. Дружба народов, 2010, № 6
Рецензия на роман Дины Рубиной «Белые камни Кордовы». Рецензент увлеченно пересказывает роман – остросюжетный, с элементами фантасмагории; чувствуется, что Рубина представляется ему серьезным прозаиком, а не просто мастером квалифицированной беллетристики. Но вот едва ли не все, что он имеет сказать «от себя»: «В сущности, книга Дины Рубиной — это повесть о времени. Чтобы хоть что-то понять в истории, не стоит устремляться назад. Есть смысл поискать вокруг, в сегодняшнем дне, поплутать по закоулкам нынешнего бытия: глядишь — и здесь, совсем близко, обнаружатся следы далекого прошлого».
Слишком о многих литературных произведениях можно сказать нечто подобное. |
  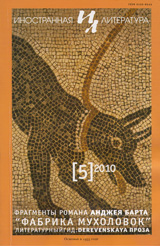   |


