|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 88 / Октябрь 2010 15 лет спустя
О world music вообще и клезмерском трио «Кроке» в частности |
|
||||||||
|
Нет, это не ошибка памяти и не игра слов. Это немного сдвинутая омонимическая тень знаменитого «кирпичного надсада». В силу смысловой валентности последнего слова. Надсад — надрыв. Как звучит скрипка? Надрывно. (Хотя «надрывно» — это на человеческом языке. А на скрипичном? Ответ — в еврейской песенке про ребе Элимейлеха. Там скрипка звучит «фидлдик» — скрипично. Это единственно точный ответ на вопрос: «Как звучит скрипка?») Вторая строка «Рождественского романса» скрывает природу своего аккомпанемента. И проясняет ее. Вибрация струны («качнется вправо, качнувшись влево») рождает ноты, точки с неустойчивыми, филирующимися координатами (высота, длительность) в пространстве их звучания, и получается звуковая фигура, форма (как роза ветров), формирующая это пространство, овеществляющая его своим звуковым веществом, отстраивающая его своим строем. Так же устроен и наш мир изнутри — в «теории струн», согласно которой все элементарные частицы, кирпичики материи, порождаются колебаниями бесконечно тонких квантовых нитей-струн, их неустанным усталым трепетом, надсадом. Так «звучит» мир, порождая себя и ту свою часть, где мы можем снять кавычки со слова «звучит», но при этом помнить о его внутренней «закавыченности», связи с тонкими вибрациями материи — матери нашего звучащего мира, в широком смысле — жизни. С тех пор как человек, дуя в полую кость орла, встряхивая лиственной гривной-погремушкой, постукивая палочкой по сталагмиту или раскручивая «летающий ромб», стал отвечать звучащему миру, музыка не забывала об этой связи. А человек с «костяной свистулькой», став «композитором» и заключив музыку в послушные тональные формы, до поры до времени об этой связи «забыл» (она напоминала о себе — например, хроматизмами отчаяния у Джезуальдо). Время пришло, и двадцатый век, с его нововенскими «серийными» экспериментами (после Первой мировой) и бибопом (после Второй), «вспомнил» об этой «элементарной» памяти музыки, (от)вернулся от гармонической, над-материальной, закономерной гармонии к «гармонии» вне-гармонической, внутри-материальной, случайной. От обнадеживающе несвободной — к безнадежно свободной. От выразительно чистой — к чисто выразительной. От слышимой — к «слышимой», от зрячей — к слепой. (Ведь музыка слепа! Вернее, слепы ее проводники — ноты. Как «слепы» способы ее извлечения — тактильные, на ощупь. Как слепа импровизация: ноты — летучие мыши — ощупывают пространство, озвучивая его, координируясь в нем по своему звуку, и так «произносят» пространство, артикулируют его, то есть создают.) Но «костяная свистулька» никогда не умолкала. Она осталась у тех, кто слушал ее в древней пещере, кто вышел вместе с ней в кочевые пространства, кто «высвистал» из нее народную музыку — свою спутницу в трудах и радостях. Во второй половине двадцатого века эта музыка, сохранив свои локальные черты, стала музыкой вообще, «чьей-то еще» и ничей, музыкой par excellence, по своему древнему преимуществу, и получила сакральное имя «world music», музыка мира, мировая музыка. Перефразируя песенку о ребе Элимейлехе, можно было бы сказать, что эта музыка звучит «велтлдик», звучит как мир, а мир в своей элементарной основе звучит — как эта музыка. Томаш Лато, Томаш Кукурба и Ежи Баволь из польской клезмерской группы «Кроке», кажется, знают об этом. В композиции «The Secrets of the Life Tree» (альбом «Eden», 1997) тягучее темное вещество альтовой темы трудно восходит внутри спутанных ветвей-сосудов, изливается из них и, не меняясь ни на одну ноту, оборачивается простеньким быстрым скрипичным фрейлехсом с каким-то даже столичным, «венским», вальсовым лоском, а потом, не меняя тембра, медленно вливается обратно в сильные старые ветви-мехи и поблескивает в них, уходя в глубину, становясь песенкой, которую могли бы спеть ангелы служения, отдыхая от сотворения мира… В «Usual Happiness» («Ten Pieces to Save the World», 2003) расслабленная походка гангстерского мотивчика все повторяет и повторяет немудрящую историю своей сердечной победы и никак не может подобрать слова, чтобы сказать, как же ему хорошо, забывается какими-то головокружительными подробностями и вскипает голливудским tutti на всём, что попадается ему по дороге. В «Medinet» («Out of Sight», 2009) скрипка, влажная от красного провансальского вина «Medinet», мутирует на жужжащем «ренессансном» остинато в сторону восточных мелизмов, стареет сразу на два тысячелетия и скользит священной змеей среди развалин Мединет-Абу — погребального храма Рамзеса III… В «Life as It Is» («Out of Sight») несколько нот-приятелей едут ранним утром в поле на тряской тележке аккордеона, скучают, болтают ногами, перебрасываются словечками, шуточками, одному из них надоедает, он заливается какой-то китайщиной дурашливого напева, квакающего, облизывающегося, «брдынькающего», и вот, не заметив как, они уже в лесу танца, и солнце перебирает лучами его стройные тонкие вехи… А вот один из этих приятелей — «Luftmensch» («Out of Sight») — идет на все четыре стороны, от души посвистывая, вдруг останавливается, будто пронизанный четырьмя ветрами, мгновенно видит вокруг себя не пустое поле, а поле пустоты, но потом спохватывается и цепляется за оборванную светлую ниточку своего свиста, к которой, правда, уже приплелась и никак не отвяжется другая — дурная, серая… А вот и поля пустоты — «Fields of Sorrow» («Out of Sight»), и по этим полям идет неразборчивое восточное слово, и молится, и никак не может произнести себя, и заикается «ав-в-в-ва», его берет за руку скрипка и переводит через поле, переводит на свой язык и подводит к тому месту, где его встречает «костяная свистулька», такая высокая, что почти неслышная… «Кроке», особенно в последнем альбоме — «Out of Sight», соединяет абсолютный, прото-повествовательный (на уровне дыхательной основы речи) лиризм («Moondowner», «Beyond Words», «Mecalakuku»), следующий всем излучинам души, которая издревле отвечала звучащему миру, и звучание самого мира («Солнца», «Пустынь», «Пещер», «Воздуха», «Огня», «Воды», «Времени» — названия композиций из альбомов «Sounds of the Vanishing World» и «Ten Pieces to Save the World»), запечатленное в этих древних ответах. Это принцип «дойны» (молдавской, румынской, еврейской — не важно), принцип лирического «опевания» пространства — будь то пространство высокогорных карпатских пастбищ или «пространство жизни», — опевания, предполагающего путь назад, радостно-печальное возвращение домой, к Началу, к неловкому, пугливому дутью в «костяную свистульку», к струнному надсаду мира — out of sight... Так играет свою великую «Dojna de jale», траурную дойну, Георге Замфир, так он вздыхает в свой най в конце, облегчая сердце, давая ход молитве… Бубер рассказывает, как однажды Баал-Шем-Тов молился в синагоге в Йом-Кипур и во время завершающей молитвы скудоумный мальчик-пастушок засвистел в свистульку. Все были смущены, а Баал-Шем-Тов продолжал молиться, причем еще радостнее и легче, чем прежде. Позднее он сказал: «Этот мальчик облегчил мне молитву».
|
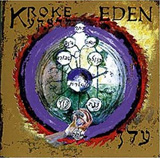    |


