|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 73 / Апрель 2008 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Борис Минаев. Ошибка доктора Левина. Повесть. Октябрь, 2007, № 11
Рассказ о враче-психоаналитике и его отношениях с женщинами. Врача зовут Лева Левин.
Леонид Медведко. Общий дом на Святой земле. Запад и Восток в новейшее время. Дружба народов, 2007, № 12
Попытка интерпретации ближневосточного конфликта и позиции в нем России с точки зрения расплывчатой евразийской идеологии. «“На Святой земле придется строить общий дом, а не святилище”. Этому совету придется, очевидно, рано или поздно следовать, как евреям-израильтянам, так и арабам-палестинцам, как бы они ни расходились и ни отгораживались друг от друга стенами, рвами и “барьерами безопасности”. В отличие от культурологов и гуманитариев, усматривающих в этом конфликте проявление “взаимоантисемитизма”, естественники предпочитают оперировать более близкими для них понятиями из синергетики и “динамизации хаоса”. Они стараются найти некий “спасительный аттрактор”, способный перевести конфликт в режим “самоорганизации хаоса”». Что, собственно, пытался сказать автор (кроме ритуального «ребята, давайте жить дружно») — понять затруднительно.
Зиновий Зиник. Иерусалимский квартет. Знамя, 2007, № 11
Воспоминания русского писателя, уехавшего из СССР по израильской визе и живущего в Лондоне, о русском поэте Леониде Иоффе, тридцать лет прожившем в Израиле и там же умершем. Но для Зиника место, которое покидаешь, важнее места, где бросаешь якорь. Ему кажется, что и в случае Иоффе «еврейство, точнее, все то, что он называл иудаизмом, было некоей заграницей, куда можно было уехать из советского застоя». Иоффе уехал, и создал для себя, в своем сознании, «некий примысленный, идеальный Израиль: движимый одной, руководящей библейской идеей, но облаченный в легкую, эстетически безупречную одежду модернистской эстетики, оснащенной всеми техническими новшествами современной цивилизации. Этот Израиль не имел никакого отношения — ни к бюрократической машине современного сионизма, ни к душноватому уюту еврейской кухни, где сгрудились жертвы всемирного антисемитского заговора…». Сама эстетика Иерусалима — города, где бетонные дома «стыдливо прикрыты» плитами из розового иудейского камня, — способствовала сохранению этой иллюзии.
А все-таки этот «советский застой» остается в сознании — по крайней мере, в сознании мемуариста. Не случайно он продолжает обсуждать актуальный в те годы, а ныне вполне праздный вопрос о том, плодотворна или вредна для русского писателя эмиграция, темпераментно споря с другом юности и собратом по перу Евгением Сабуровым, «государственным деятелем новой России». Сабуров пишет: «Была иллюзия, что Израиль — это русская замечательная интеллигенция, построившая там мечту. А это чуждая страна, в которой русская культура нужна только двум-трем десяткам людей… Это ведь не эмиграция. Это попытка обретения родины, которой не нужен твой труд». По-своему он прав: жить в Израиле русским эмигрантом и русским писателем — это противоречит самой сионистской идее, самому замыслу отцов-основателей государства. И, значит, человеку, обреченному на этот статус, не миновать некой внутренней раздвоенности. Была она, конечно, и у Иоффе — человека, который боялся всего, от мотыльков до арабских террористов, от неоплаченных счетов до автомобилей, но при этом «ночевал в армейских походах под открытым небом, умел обращаться с автоматом в боевой готовности…». Трогательного и обаятельного человека — таким его сумел описать друг.
Александр Бакши. Как я стал евреем. Знамя, 2007, № 11
Известный композитор взялся за перо, чтобы возвестить urbi et orbi, что он — не еврей, а крымчак. Анализ этого текста, а также других недавних публикаций по «крымчакской проблематике», см. в одном из ближайших номеров журнала «Народ Книги в мире книг».
Николай Вольский. Национализм как «превращенная форма страха», или Откуда берутся антисемиты. Звезда, 2007, № 12
О межнациональных отношениях пишет специалист по иммунологии и биохимии. Тезисы таковы: в каждом обществе есть некоторое количество латентных ксенофобов, причем ксенофобия их абстрактна и может быть направлена на любой объект; активизируется она «в результате индукции, и побудительным сигналом служит информация о том, что “евреев будут бить”». Ключевой фактор здесь — страх остаться в меньшинстве, прослыть «жидовским прихвостнем». Поэтому среди «латентных антисемитов» много людей, «которых нельзя назвать “чистокровно русскими” и в чьих жилах есть часть еврейской крови». Мысли не лишенные здравого смысла, хотя и не особенно оригинальные. Все было бы хорошо, если бы при этом автор не претендовал на всеобъемлющий анализ феномена антисемитизма…
Наум Лейдерман. Голос и хор: случай Михаила Светлова. Урал, 2007, № 11
Сегодня советская поэзия 1920–1930-х годов снова становится модной темой для изучения. К сожалению, осваивающий эту тему Наум Лейдерман делает характерную ошибку: он рассматривает таких авторов, как Н.Тихонов, М.Светлов, Э.Багрицкий, В.Луговской, И.Уткин, А.Жаров, А.Безыменский, М.Голодный, Джек Алтаузен, в качестве единой плеяды — «комсомольских поэтов». В действительности объединение этих имен произошло задним числом. Багрицкий, Тихонов и Луговской (безусловно, самые талантливые и культурные авторы в приведенном списке) никогда в перечень «комсомольских поэтов» не включались: они были «попутчиками», терпимыми (но не более того) советской властью, несмотря на собственное искреннее увлечение революцией. Багрицкий входил в группу «Перевал», а затем в ЛЦК (Литературный центр конструктивистов); к конструктивистам принадлежал и Луговской; Тихонов был близок к «Серапионовым братьям». Все эти группы были глубоко чужды и враждебны «комсомольской поэзии», с которой связан литературный дебют Безыменского, Светлова, Голодного, Жарова, Уткина и Алтаузена.
Выделяя среди «комсомольцев» Светлова, исследователь подчеркивает мягкую, человечную интонацию его лирики, отсутствие у него антигуманистических мотивов, характерных для поэзии двадцатых годов («экстремистских крайностей»). Критик полагает, что именно поэтому Светлов и «остался одним из самых главных долгожителей в плеяде поэтов — романтиков Октября». Полагаю, что не поэтому — просто прожил несколько дольше других (Жаров и Безыменский, правда, прожили еще дольше, но они были уж вовсе бездарны). Еврейские мотивы поэзии Светлова, «простого парня из Бердичева», не становятся предметом специального анализа, хотя некоторые из упомянутых в статье стихотворений (например, «Колька») дают для этого повод. Да и про большинство «комсомольских поэтов» трудно писать, игнорируя их еврейские корни…
Юрий Малецкий. Случай Штайна: любительский опыт богословского расследования. Роман о романе. Континент, 2007, № 133
Еще один из череды текстов, посвященных роману Людмилы Улицкой. Написан для «Нового мира», но забракован из-за чрезмерного объема.
Стоит привести один пассаж:
«Католики, оно конечно, плохие ребята, погрязшие в “латинской ереси”, но вот чего у них давно уже не наблюдается, так это, — смешно сказать, — церковного антисемитизма. Достаточно сказать, что предшественником нынешнего своего преемника (sic! — В.Ш.) — епископом города Парижа, кардиналом Франции, был крещеный еврей Люстиже, глава епископской конференции католической французской Церкви. Это только один факт, есть и многие другие, поверьте на честное слово. Ну хотя бы: в 2003-м или 2004 году, дай Бог памяти, Рим утвердил викарным епископом латинского Патриархата для евреев-католиков прелата Жана-Батиста Гуриона, крещеного еврея, чтобы на месте, добросовестно, заниматься именно с евреями-католиками, решать все их вопросы… К тому же существует и развивается Всемирная ассоциация евреев-католиков, с одобрения Церкви основанная отцом Элией Фридманом, — кстати, собратом Штайна по кармелитскому монастырю в Хайфе. Такова общая тенденция католицизма, — во всяком случае, после так называемого Второго Ватикана, собора 1962–1965 гг.».
Вообще-то антисемитизм бывает не только расовый, и как раз церковный антисемитизм во все времена выражался не в предубежденном отношении к выкрестам, а в резком неприятии иудаизма. Уже одно только непонимание этого факта вызывает недоверие к автору этого «романа о романе». Не говоря уж о том, что христианское богословие — наука со своими традициями и своим языком, и цитаты, к примеру, из песен Высоцкого в «богословском исследовании», даже любительском, представляются не вполне уместными. По крайней мере — стилистически…
Галина Климова. Кантор из Харбина. Из книги «Путеводитель по семейному альбому в стихах и прозе». Континент, 2007, № 133
Еще одна еврейская родословная: дедушка Федор (Файбус) Моисеевич, банковский служащий, бабушка Клара (Хая), учившаяся в консерватории, прадедушка из местечка Пряники, доживший до 111 лет… И дядя — кантор из эмигрантского Харбина, чью могилу рассказчица находит во время поездки в Китай. Для рассказа маловато, но семейные хроники всегда интересны — в них неизбежно отражается «большая история»: «В Харбине не осталось ни одного еврея, но в синагоге — потрясающий музей истории и культуры евреев Харбина. В крупном научно-исследовательском центре изучают наследие не столь далекого прошлого. Сменилось всего пять поколений…»
Александр Мелихов. При свете мрака. Роман. Новый мир, 2007, № 12
Герой романа — как часто у Мелихова — интеллектуал-резонер. То есть интеллектуал он по складу личности, а по профессии — хозяин фирмы «Всеобщий утешитель». Окружающий мир (в том числе собственную дочь, литературоведа-структуралиста, и ее мужа, поэта-постмодерниста) он описывает в тонах мрачных и язвительных. С нежностью говорит он лишь о своей жене, которую называет мужским именем «Гришка» (она из донских казаков), и своих многочисленных возлюбленных. Жена и возлюбленные (в основном платонические) друг другу никак не мешают: «Когда в моей жизни появилась Гришка, вернее, когда в ее жизни появилась сказка обо мне, я уже знал, что никогда больше не смогу оттолкнуть ни одну женщину, если мне случится стать воплощением ее мечты». Мечта — сквозная тема прозы Мелихова…
По ходу дела звучат и суждения по еврейскому вопросу: «Я… предлагал считать наш брак с Гришкой символическим примирением между классическим и бердичевским казачеством, да, именно казачеством, ибо русское еврейство, отпавшее от своей национальной грезы, за три-четыре десятилетия одолело тот же путь, на который у казачества ушли три-четыре века: вначале бунт и противостояние государству — а в конце верность престолу и отечеству. Ведь еврейское казачество уже двинулось верой и правдой служить новой власти, воображающей себя интернациональной, но обреченной переродиться в национальную, ибо никакая власть, кроме русской, в России удержаться не может. И советская власть совершила роковую ошибку, когда в угоду черни оттолкнула патриотическое еврейство, вместо того чтобы перерождаться вместе с ним…» Роковой вопрос затрагивает и ревнивый супруг Командорский: «…Если нравится, так забирай ее себе. Женись. Корми, одевай. Защищай. Когда она заболеет, ищи врача. Когда у нее радикулит, растирай поясницу. А ты как хотел — вкусная, обаятельная, извольте кушать? А когда надо расплачиваться — в сторону? Вы, евреи, всегда так: в каждой стране выбираете самое вкусное. В Германии больше всех любите Гёте, в России — Пушкина, а когда надо расплачиваться… За это вас и ненавидят — за ваше донжуанство».
Впрочем, сам герой-рассказчик, которому это говорится, — на самом-то деле еврей лишь отчасти. По отцу. Опять-таки — как многие герои Мелихова… |
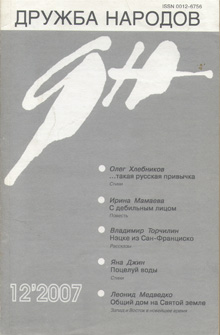   |


