|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 70 / Октябрь 2007 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Михаил Генделев. Из цикла «Компания». Октябрь, 2007, № 2
Михаил Генделев — главный в кругу авторов, что объявили в 1970–1980‑е годы о появлении «русскоязычной израильской литературы», не имеющей отношения к литературе русской, а заодно и о существовании общности «русских израильтян», принципиально отличных от русских евреев. Увы, израильская (ивритоязычная) общественность в массе своей так ничего о новой ветви израильской литературы и не узнала, зато по открытии границ Генделев, ленинградец по рождению, стал часто и надолго приезжать в Москву, где и насладился в итоге статусом мэтра и даже чуть ли не живого классика (одного из нескольких десятков). В стилистическом отношении стихи Генделева по-прежнему принадлежат, однако, ленинградской «второй культуре» семидесятых — точнее, ее периферии. Израиль присутствует, в основном, на тематическом уровне, и этот тематический пласт позволяет актуализировать «спящие» в русской поэзии мотивы. Например — лермонтовско-гумилевскую традицию военной лирики (воспевать Советскую Армию — стыдно, а «израильскую военщину» — нет). Но ныне и израильская боевая слава, кажется, потускнела: «Как-то вторая ливанская очень по-русски // чтобы и стоя не чокаясь чтобы // и // без закуски...» Слабое место поэзии Генделева — неспособность сохранить напряжение до конца стихотворения, дробность дыхания. Так было и в прежних его стихах.
Александр Хургин. Трижды три рассказа. Октябрь, 2007, № 2
Среди героев рассказов — «Бэлла Комаровер, еврейка. В том смысле, что никто не знал, кто она собственно такая, а когда у нее спрашивали: мол, Бэлла, ты кто? — она отвечала: “Я еврейка”». А также и другие «эмигранты последней волны».
Александр Бараш. Дан Пагис: Жизнь после смерти Дан Пагис. Стихи Иностранная литература, 2007, № 5
Израильский поэт Дан Пагис (1930–1986), как и другой уроженец Буковины, великий немецкий поэт еврейского происхождения Пауль Целан, прошел в детстве через румынский концлагерь. В шестнадцать лет он приехал в Израиль и начал учить язык, на котором ему предстояло писать — и достигнуть славы. Переводчик и автор статьи о Пагисе Александр Бараш — один из самых заметных русскоязычных поэтов Израиля. Трудно сказать, его ли это вина или свойство оригинала, но в русских версиях стихов Пагиса не чувствуется особых трагических глубин — как у того же Целана. Но это достойные стихи, сдержанные, простые и острые по мысли. Еврейский контекст возникает естественно, отличая произведения Пагиса (стихи и короткие прозаические отрывки) от этнически и культурно безликой «европоэзии». Так же естественно возникают и воспоминания о родном городе, Радауце: «...Вокруг, на сильном ветру, собираются тысячи снежинок, каждая со своим кристаллическим рисунком. До сих пор страстное желание быть особенной, до сих пор те же иллюзии. При этом у каждой, у всех один и тот же костяк: шесть концов, Звезда Давида, на самом деле. Через секунду они растают, слипнутся, превратятся в комья, просто в снег. Среди них мой старый город приготовил могилу и мне».
Аарон Штейнберг. «Грехопадение». Из дневника (1968 год). Новый мир, 2007, № 3
Из старческих дневников выдающегося русско-еврейского мыслителя — необычная автобиографическая новелла о детском «грехопадении». Пятилетний мальчик под влиянием странного эротического импульса крадет пальтишко своей сверстницы. Для Штейнберга это предмет для размышлений о добре и зле: «Я пережил нечто, предопределившее все мои скитания за порогом детской. Все произошло сразу, и теперь, исповедуясь, я могу произвести точный анализ этой эмбриональной стадии в эволюции моего индивидуального существа. При этом все было так, как если бы я был в каком-то разрезе настоящим библейским Адамом. На этом я хочу остановиться». Но для современного читателя рассказ Штейнберга — запоздавший почти на полвека и интересный в своем роде образчик русской прозы конца Серебряного Века.
Юлия Винер. Рассказы. Новый мир, 2007, № 3
Качественная и добротная реалистическая проза позднесоветской выучки — на израильском материале (автор — из очень давних, с 1971 года, репатриантов). Один рассказ — про короткую любовь израильского художника и русской художницы. Второй — про не совсем нормальную старушку, целыми днями скитающуюся по супермаркету.
Сергей Беляков. Дон-Кихот из Хайфы Михаил Горелик. Прощание с ортодоксией Юрий Малецкий. Роман Улицкой как зеркало русской интеллигенции Ирина Роднянская. P. S. В сухом остатке Новый мир, 2007, № 5
Книга Людмилы Улицкой про «иудеохристианского» священника вызвала множество откликов и, в частности, целый блок рецензий под общей шапкой «Вокруг Даниэля Штайна» в «Новом мире».
Юрий Малецкий видит в дилетантских и слащавых богословских конструкциях писательницы и ее героя «зеркало русской интеллигенции». Я бы сказал определеннее: «позднесоветской русской интеллигенции» — с ее характерным стремлением уйти от острых и неразрешимых вопросов и заменить (в масштабах мировой истории) контрапункт уютным компромиссом. Малецкий намекает на советскую упрощенность картины мира, демонстрируемой Улицкой: «Уважаемая госпожа повествователь! Я сколько возможно пытался обращаться только к Даниэлю. Но коль уж скоро Вы сами говорите от себя все, что вот только что приведено, — я просто вынужден сказать, единой правды ради, что это Ваше “от себя” — ни к Церкви, ни к Христу, ни к чему, кроме учения Сухомлинского и других Сухомлинских, не имеет отношения». Слова Малецкого — это слова церковного христианина; вероятно, мнение ортодоксального иудея о книге Улицкой было бы аналогичным. Люди разных духовных традиций, знающие о несовместимости своей аксиоматики (но уважающие друг друга), скорее найдут общий язык между собой, чем с иными «примирителями». Правда, предпочитая закончить не «за упокой, а за здравие», критик затем смягчает свои оценки.
Другие рецензенты к писательнице мягче изначально. Михаил Горелик и Сергей Беляков предпочитают видеть в ее книге не пошловатую духовную самоуверенность, а высокий утопизм. «Тонкой ниточкой праведник соединяет людей, принадлежащих к разным нациям, но с его смертью ниточка обрывается. Интернациональная община Даниэля Штайна распалась сразу после его смерти, иудеохристианская “церковь Иакова” оказалась всего лишь прекрасной утопией» (Беляков). С точки зрения Белякова, главная тема книги — проблема национализма (не обязательно еврейского) и его сочетания с христианством. При этом для всех трех рецензентов на первом месте в книге Улицкой — ее идеологическая, а не художественная составляющая.
Ирина Роднянская, заведующая новомирским отделом критики, подводит итог. Идеологически она солидарна с Малецким, будучи, как и он, христианкой, однако полагает, что Улицкой удалось «создать образ “положительно прекрасного человека”, который светится со страниц книги». Но и она находит в романе элемент «беллетристического мелодраматизма».
Лев Альтмарк. Дорога к своим. Рассказ. Нева, 2007, № 2
Репатриант в Израиле становится подручным торговца живым товаром — что называется, «от безысходности». Рассказ с таким сюжетом (и в такой же стилистике написанный) вполне мог появиться в «Неве» и в 1977 году. Только тогда слово «Б‑г» писалось бы не по‑хасидски, а по‑советски — «бог». Пикантность в том, однако, что герой рассказа Альтмарка и в СССР совершил нечто, стоившее ему 8 лет лагеря. Тоже, вероятно, от безысходности.
Михаил Юдсон. Река Проза, или Другой берег Губермана. О книге «Вечерний звон» и возле. Нева, 2007, № 4
Откликаясь на автобиографическую повесть русского поэта-юмориста, живущего ныне в Израиле, рецензент щедр на похвалы и лестные аналогии: «Кстати, в “Вечернем звоне”, как и в “Улиссе”, восемнадцать (с преди- и послесловием) глав — сакральное, нашенское число. Гематрия слова “жизнь”. И герой книги — его зовут “Я” — находится в постоянном броуновско-блумовском движении, хотя и неизменно возвращается, к счастью, к родным берегам, в точку исхода (не путать с вершиной пирамиды)».
Владимир Елистратов. Больше евреев, хороших и разных! Нева, 2007, № 4
Путанная, но небезынтересная статья. Автор начинает со следующего утверждения: «Как и абсолютное большинство русских людей... я всегда относился к евреям: а) нейтрально, б) стереотипно». В зрелом возрасте заинтересовавшись предметом, автор приходит к следующим бесспорным, но малооригинальным выводам: во-первых, еврейская культура очень сложна и противоречива; во-вторых, смерть «еврейского извода русской культуры», как и прочих ее национальных изводов, сильно ее, русскую культуру, обеднила бы. Однако между делом автор высказывает несколько более глубоких суждений. Например: «Еврейская культура относится к тому типу, который сочетает в себе установку на перманентное внутреннее усложнение, если угодно, перманентную этнокультурную рефлексию, и установку на перманентное же усложнение внешнее, то есть через контакт с другими культурами. Это довольно уникальное сочетание. Нечто подобное можно встретить у русских...» Автор спорит с Юрием Слезкиным и его восприятием еврейской культуры как «меркурианской» (в противовес культурам «аполлоническим»), замечая, что евреи заразились аполлонизмом... Но нельзя же о таких сложных вопросах говорить между делом в короткой журнальной статье.
В послесловии к тексту Елистратова Александр Мелихов замечает: «Эстет во мне, пожалуй, был бы и не прочь продлить жизнь еврейскому изводу русской культуры даже и ценой психологического благополучия российской ветки Палестины. Но гуманиста во мне такая перспектива безусловно отвращает. Впрочем, и эстета отчасти тоже. Ведь для того, чтобы продлить жизнь русско‑еврейской культуре, пришлось бы пожелать успеха юдофобам...» — утверждение провокационное и, мягко говоря, небесспорное, но способное возбудить серьезный, по существу, спор. Что и хорошо.
Мария Рольникайте. Я пришла к тебе, мама. Нева, 2007, № 4
В рецензии на «краеведческую» книгу В.Цыпина «Евреи Мстиславля» (Иерусалим, 2006) Мария Рольникайте, автор знаменитых повестей о судьбах евреев Литвы, тактично обходит вниманием очевидную слабость работы краеведа-любителя и говорит о Холокосте в целом. Пафос рецензии лучше всего передает ее последняя фраза: «Отсутствие памятников и запущенные, особенно вокруг многих небольших городов, места расстрелов и рассеянный пепел сожженных в печах крематориев — таков итог трагедии нашего народа. И заслуга Владимира Цыпина в том, что он хоть частице этой трагедии не дал уйти в полное забвение и создал книгу-памятник».
Юрий Колкер. Список Мадиевского, или Невоспетые герои рейха. Нева, 2007, № 5
Рецензия на книгу Самсона Мадиевского «Другие немцы» (М., 2006) об арийцах — гражданах Рейха, которые (часто рискуя жизнью) спасали евреев. Рецензент анализирует исторические и психологические коллизии, приведенные Мадиевским. Интереснее всего вот что: «...спасатели скрывали свой подвиг, неохотно рассказывали о нем... Оказывается, признаться в подвиге — в обновленной, осудившей нацизм Германии — было небезопасно. Иные спасатели скрывали — и скрыли — свои имена. Вообразите: банкир, давший на помощь евреям сто тысяч марок, не пожелал даже после войны назвать свое имя... На верхнем уровне, там, где располагается совесть народа, нацизм осужден бесповоротно; на уровне нижнем, там, где народное исподнее, где задушевность, — сдвиг едва наметился». Сейчас, судя по некоторым признакам, уже наметился обратный сдвиг.
Борис Шапиро. Муляж кладбища. Нева, 2007, № 5
Материал, парный предыдущему, — про памятник берлинским евреям: «Между Потсдамерплац и Бранденбургскими воротами обустроено поле размером со средне-большое кладбище. Ровными рядами поставлены на нем темно-серые стелы, гигантские свинцовые буквы слепого набора несуществующего отпечатка, начинающиеся прямо от земли по краям поля и возвышающиеся в три человеческих роста в середине». Автор статьи, член правления еврейской общины Берлина, памятником недоволен: «Муляж кладбища извращает идею Книги Жизни. Кому поставлен этот памятник? Если жертвам, то почему так грубо пренебрегают чувствами и верованиями тех, кого хотят помянуть, и их потомков? Памятник жертвам должен быть явлением борьбы со смертью. То есть он должен, хотя бы символически, обессмерчивать имена, а не их отсутствие...» Мнение у Бориса Шапиро спросили. Но он остался в меньшинстве. Едва ли осмысленно задним числом отстаивать свою позицию в петербургском журнале, к тому же заканчивая статью философическим сонетом собственного сочинения, не имеющим никакого отношения к делу.
Леонид Гомберг. Рецензия на роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы». Знамя, 2007, № 3
«Сюжет романа, — пишет Леонид Гомберг, — построен на обочине некой криминальной истории, где-то подслушанной или вычитанной, а возможно и придуманной. Небывалая по масштабам система наркотрафика, созданная в Советской Империи эпохи застоя неизвестной авантюристкой по кличке Артистка, находится, кажется, в центре какого-то иного повествования, грандиозного фантасмагорического действа с погонями, арестами и убийствами — всем тем, что сегодня так будоражит воображение наших читателей и зрителей». Рубина — писатель, для которого еврейская тема была одной из главных, но в этом романе (и в рецензии на него) она скорее периферийна. Хотя, разумеется, среди героев есть несколько носителей соответствующих фамилий, а рецензент пишет слово «Б‑г» без гласной (это, кажется, теперь модно в русских толстых журналах) и упоминает об «иудеохристианской цивилизации». Тут уж одно из двух: или поставьте гласную, или не говорите об «иудеохристианстве» — для традиционалистски настроенного приверженца любой из двух религий этот термин не имеет смысла.
Евгений Касимов. Парикмахер Яша. Знамя, 2007, № 4
В маленьком шахтерском городе живет парикмахер Яша Горенфельд, бывший фронтовик, стесняющийся надевать по праздникам боевые ордена. Взрослые думают, что орденов у Яши нет, потому что он и на фронте был парикмахером. Дети вообще считают Яшу переодетым Гитлером — из-за его чаплиновских усиков. По законам жанра Яша должен оказаться бравым героем, разведчиком или десантником. Он им и оказывается.
Рада Полищук. Жизнь без конца и начала. Полиптих в восьми картинах. Дружба народов, 2007, № 3
Временами жесткий, временами абсурдный жизненный материал плохо сочетается с лиричной и несколько вычурной «дамской» интонацией. То и дело трагедия у Рады Полищук переходит в мелодраму. Тем не менее читать рассказы интересно. У героини есть родной дедушка Арон, в 1976 году уехавший в Израиль и целиком посвятивший себя изучению Торы, и «дедушка отец Виктор» — отчим матери, православный священник. В другом рассказе появляется «друг Ося», воплощение всяческих достоинств, и его отец, ветеран войны, сжигающий себя вместе с женой и пасынком-дауном. Мелодрама без конца и начала.
|
 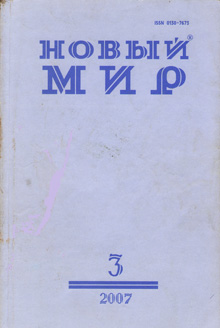 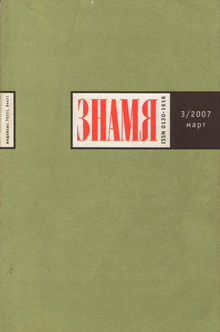 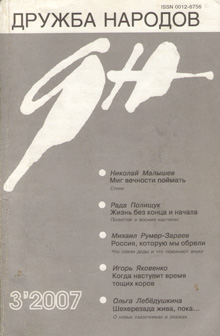 |


