|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 50 / Апрель 2004 Имена
|
|
||||||||
|
1
Появление прозы Григория Кановича (а читателем метрополии она была открыта в конце брежневской эпохи — конечно, в Вильнюсе его знали и читали намного раньше) было одновременно закономерным и неожиданным, шокирующим.
Это была эпоха почвенничества, эпоха обращения к корням. Началось все, как и полагалось, с государствообразующей нации. В начале 1970-х чуть ли не вся городская интеллигенция (еврейская тоже — собственно, она-то в первую очередь) восторгалась пресловутой тройкой Распутин-Белов-Астафьев. К середине десятилетия как бы в противовес русскому культу «малой родины» и традиционного быта появились проникнутые теми же чувствами грузинские и эстонские романы, потом — автобиографические книги русскоязычных среднеазиатов (Тимура Пулатова и других), и «Сандро из Чегема» Искандера, и прочая, и прочая. Все вспомнили корни, кроме евреев. Потому, во-первых, что им, «людям воздуха», корней и не полагалось, их функции в империи были другими. А во‑вторых, они и сами от своих местечковых корней бежали, как черт от ладана. Они хотели быть европейцами, утонченными индивидуалистами, людьми культуры. А стали — советскими людьми par excellence: сперва советскими бюрократами (пока не вытеснили с самых теплых бюрократических местечек), потом — советскими интеллигентами.
Чтобы советские еврейские интеллигенты в массе своей обратились к своим родовым корням, им нужно было «показать конфетку», доказать, что еврейское прошлое — это нечто престижное, культурно ценное. Связать его с Библией, скажем. С боевыми победами израильской армии (хотя как раз сионизм к местечковым корням был, по крайней мере изначально, беспощаден). Или подсунуть книжку Бубера о хасидизме. Пришить к лапсердаку золотые погоны, одним словом. В сущности, этим и занимались писатели, которые обращались в те годы к еврейской теме, притом что масштаб и характер их дарования был весьма различен — от совершенно «неофициального» Фридриха Горенштейна до почти официозного Анатолия Рыбакова (в промежутке между «Кортиком» и «Детьми Арбата» написавшего и опубликовавшего «Тяжелый песок»).
А Канович писал о местечковой еврейской жизни с такой же простотой и естественностью, с какой Искандер писал про абхазские аулы, а Астафьев — про сибирскую деревню. Это был просто его мир, его родина, и в связи с этим у него не возникало никакой рефлексии. И притом все это было написано хорошим русским слогом — именно тем, который нравился широким кругам интеллигенции: грамматически правильным (без всяких там хармсовских или платоновских странных «сдвигов»), эмоциональным, динамичным, в меру метафорическим, в меру чувственным. Слогом очень хорошего перевода? Нет, все же не совсем.
«Я возвращался с посылкой домой, но той радости, от которой накануне по телу разливалась сладостная пьянящая легкость, я уже не испытывал, что-то ушло, вытекло — как будто треснул кувшин, полный меда, и вязкая струйка поползла со стола вниз, просачиваясь в щели между половицами, и никакими силами ее оттуда не выцарапаешь, не выколупаешь, хоть все ногти обломай. В моей голове шмелями гудели всякие мысли, они не жалили, но от их гуда ломило в висках. Я вдруг почувствовал, что всегда бок о бок с радостью, как слепой с поводырем, ходит еще что-то, смутно угадываемое и безымянное, может быть, жалость, может, вина, а может быть, совсем другое».
Это — из трилогии «Свечи на ветру» (1974–1977), самой знаменитой книги Кановича. В сравнении с первой книгой писателя — повестью «Я смотрю на звезды» (1959), написанной на том же (автобиографическом, по всей видимости) материале, — стиль «Свечей» несколько более изысканный и тяжеловесный. Другая эпоха — не пятидесятые, а семидесятые годы. Но главное никуда не делось: удивленный интерес к русской речи, к ее вполне обыденным, стандартно-книжным оборотам, любование ее нормой, встречающееся очень редко. Потому что ведь Канович — единственный на сей день крупный русский писатель, по-настоящему выучивший русский язык, вероятно, лишь в подростковом возрасте: где, да и зачем было бы ему делать это в независимой Литве до 1940 года? Человек, выросший в наполовину идишской, наполовину литовской языковой среде, он сознательно выбрал для творчества третий язык — может быть, и неродной, но дающий максимальную читательскую аудиторию. Из уязвимости и трудности этого положения он, как Конрад в английском, сумел извлечь максимум плюсов. Во всяком случае, правильная и несколько «замороженная» речь героев Кановича производит более естественное впечатление, чем тот одесский жаргон, которым по традиции должны изъясняться чуть ли не все евреи в русской литературе.
«Я смотрю на звезды» и «Свечи на ветру» — книги на одном материале, но очень разные, и не только по объему (60-страничная повесть и 500-страничный роман-трилогия). В повести еврейский местечковый быт красочен и праздничен, но никакой исторической ностальгии здесь нет. Он красочен просто потому, что это жизнь, и жизнь, увиденная глазами ребенка.
«Шумит базар. Кого только на нем не встретишь! Тут и степенный лавочник Гайжаускас, косоглазый от рождения, в матовом, напоминающем высушенного мотылька пенсне, и сумасшедший Нохэм, выкрикивающий “Продаю пар!” (Нохэм когда-то служил банщиком), и жена казенного раввина Двойре в белых лайковых перчатках, загаженных неучтивыми курами. Тут все бабы местечка, гудящие, как потревоженный пчелиный улей, и полицейский Гедрайтис, гроза воров и индюшек, которых бесит красный околыш его фуражки. И мы».
Так пишут о живом, о живых. Это все еще не застыло, не стало фотографией, эта жизнь еще полна движения. И мальчик, мечтающий стать балагулой («сидишь себе в телеге и едешь, а навстречу тебе убегают дома, деревья, дорога»), не собирается из этой жизни никуда уходить. Отсюда открывается его большая дорога.
А на самом деле всем этим людям и их миру — не только еврейскому, хотя ему в первую очередь, но и всему миру старой, довоенной Литвы — осталось всего несколько лет существования. Если не месяцев. И дорога мальчика в будущее пойдет по ту сторону рокового разрыва, заполненного массовыми расстрелами и депортациями.
В повести это — «затекстовая реальность». В «Свечах» — собственно текст. Мир, в котором живет юный скульптор («местечковый Роден») Даниил, совсем не такой красочный и во многом малопривлекательный. Это, в сущности, очень странный мир, как странно вообще еврейское почвенничество. Герои «Я смотрю на звезды» — два мальчика, еврей и христианин, пробираются на еврейское кладбище: раскапывать могилу, искать клад. А Даниил живет на кладбище, его опекает кладбищенский сторож (мать мальчика умерла, отец-коммунист погиб в Испании). По-еврейски кладбище, собственно, и есть Дом Жизни. Жизнь так переплетена со смертью, что разорвать их невозможно. И невозможно в этой жизни-смерти оставаться. Она населена призраками — такими, как дряхлый служка Хаим, или безногий могильщик Иосиф, или парикмахер Паровозник, или свадебный музыкант Лейзер. Никаких веселых балагул, никаких краснощеких торговцев снедью. Время остановилось: Испания, в которой погиб отец Даниила, одновременна Испании, в которой «нас сжигают на кострах». Из этого мира все хотят уйти. Есть разные пути выхода — ассимиляция (доктор Гутман, отец возлюбленной героя, или Ассир Гиллельс, влюбленный в литовку Кристину), сионизм (сын мельника Ойзермана), коммунизм… Но именно потому, что этот мир обречен, он так трогателен и в своей ветхости прекрасен. А может быть, и потому, что видим мы этот мир замедленным и удивленным зрением подростка, который на страницах романа достигает восемнадцати-девятнадцати лет, но так почему-то и не вступает в пору юношеского эгоцентризма. Окружающий мир настолько странен, интересен и удивителен для него, что это смягчает даже ужасы Холокоста (в третьей, заключительной части романа).
Не случайно дедушка и бабушка дарят Даниилу именно часы: для него включается время, и для мира — тоже. Вот уже лейтенант Коган, сын актера из Тобольска, дивится на невиданную им прежде, странную вещь — еврейское кладбище…
2
Вторая трилогия (скорее тетралогия — последний роман, «Козленок за два гроша», состоит, в сущности, из двух отдельных произведений) Кановича создана в восьмидесятые годы. На сей раз писатель поставил себе именно ту честолюбивую цель, от которой он, кажется, уходил прежде: создать настоящий философский роман, посвященный «месту человека во вселенной», — на еврейском материале. Но не с целью «приподнять» этот материал, доказать его общечеловеческую значимость, а просто потому, что ни на каком другом Канович не мог работать в полную силу. Его повести и пьесы из жизни послевоенной Литвы, созданные в 1960-е годы (между «Я смотрю на звезды» и «Свечами на ветру»), довольно заурядны и не возвышаются над общим литературным уровнем той эпохи.
Действие книг происходит между 1880 и 1940 годом — огромный исторический промежуток! Судя по всему, Канович не слишком вдавался в изучение исторических деталей. Его познания в области еврейской культуры и традиции также на поверку оказались не слишком велики. Как очевидно, например, из текста «Козленка за два гроша», Канович плохо знает, что такое государственное раввинское училище, чем оно отличалось от ешивы, чему там и там конкретно учили. По тексту романа рассыпаны названия книг Библии — и ни одной цитаты. Ни одной прямой реминисценции. О Талмуде и речи нет. Несколько раз Канович пытается изобразить «ученого еврея», но явно лишь в самых общих чертах представляет себе, в чем заключается его ученость.
Правда, некоторые детали уж настолько неправдоподобны, что можно заподозрить сознательную «провокацию». Ну вот, к примеру:
«Тогда, у постели умирающей Леи, ему впервые пришло в голову сделать и себе впрок надгробие. Он высечет на нем такие слова: — Эфраим бен Иаков Дудак, рожденный для смерти в одна тысяча восемьсот двадцать третьем году… каменотес. И все. И больше ни строчки, ибо все остальное неправда» («Козленок за два гроша»).
Я читал роман в 1987 году. В то время я, подобно лейтенанту Когану, ни одного старого еврейского кладбища вживе не видел, что писали в XIX веке на еврейских могилах — не знал (и, в частности, не знал, что на них никогда не указывался ни год рождения, ни профессия), но и тогда меня удивляло, что каменотес Дудак собирается высекать на своей могиле дату рождения по христианскому летоисчислению.
Или вот такая деталь — тоже из «Козленка». Эфраим Дудак недовольно смотрит на гойку — подругу сына:
«Что будет, если все Дудаки, Розентали, Лазареки переженятся на женщинах другой веры? Род еврейский прекратит существование. Следа от него не останется. Текла река, вливалась, как все реки, в море — в человечество, и вдруг высохла, и имя ее забылось».
Может быть, современному просвещенному сознанию это и неприятно, но для нормального традиционного еврея женитьба на «женщине другой веры» не была вопросом, подлежащим обсуждению. Это означало либо крещение, либо обращение жены в иудаизм (но тогда она становится еврейкой — никакой проблемы не возникает; другое дело, что в Российской Империи переход христианина в иудаизм был запрещен). Опять-таки, еврейский народ для традиционного сознания — не река, «впадающая в море-человечество, как все реки», а нечто уникальное, самоценное и ни с чем не сравнимое. Знает ли об этом Канович? Как раз об этом — знает несомненно. И все же модернизирует психологию своего героя — чтобы показать свое равнодушие к конкретной, эмпирической исторической истине. Для него важнее другое.
Важнее для него тот мир, который он силой своего писательского воображения создает. И этот мир, собранный из скудного книжного материала и из богатейшего личного опыта, оказывается вполне живым и жизнеспособным. Первый роман, «Слезы и молитвы дураков», — это еще экспозиция: практически без сюжета, точнее, с целой сеткой перекрещивающихся сюжетов. Здесь и корчмарь Ешуа с сыном Семеном и служанкой Мортой, и лесоторговец Маркус Фрадкин с дочерью Златой, и ученый рабби Ури, и сумасшедший пророчествующий сапожник Цви Ашкенази.
Второй роман, «И нет рабам рая», напротив, камерный и с четким сюжетом. Исторических «ляп» в нем практически нет (поскольку мир главного героя — городского интеллигента XIX века — известен и понятен городскому интеллигенту века XX-го). На мой взгляд, роман несколько испорчен прямолинейной дидактикой. Противопоставление Мирона Дорского, выкрестившегося ради карьеры, и Морты, примкнувшей к гонимому и отверженному народу, слишком очевидно. Здесь нет никакой проблемы — ни моральной, ни эстетической. И все же проблема возникает — в конце романа. Попытка Дорского (чьи родичи и земляки обвинены в ритуальном убийстве) вернуться «к корням», заканчивается для него безумием. Испытание оказывается непосильным. «Воскресения» в толстовском духе не происходит. Канович не принадлежит к числу писателей, предъявляющих к своим героям непомерные требования. Может быть, Дорскому лучше оставаться в своем, искусственно созданном респектабельном и благополучном мире? Но и там ему одиноко: жена умерла, сын стал революционером, коллеги и знакомые презрительно косятся…
Конечно, здесь Канович, как и многие еврейские писатели, несколько деформирует реальность. Было бы слишком просто, если бы все выкресты (в кавычках и без), люди, так или иначе порвавшие со своим еврейством, были такими, как Дорский. Драматизм ситуации в том, что очень многие из них прожили в том внешнем мире, в который ушли, счастливую и плодотворную жизнь и пользовались всяческим уважением людей, среди которых жили; и все-таки на этой счастливой и полезной жизни лежал тайный отсвет предательства.
В третьем романе — «Козленок за два гроша» — действие возвращается в местечко. Именно здесь Кановичу удается создать монументальные образы-символы, выражающие нечто важное и в еврейском мире, и в мире вообще. Позволю себе одно предположение. В числе книг, которыми зачитывались советские интеллигенты в 1970–80-е годы, был роман грузинского писателя Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа». Герои этого романа — два двоюродных брата, дети близнецов и сами внешне почти двойники. Один — благородный разбойник, другой — крупный полицейский чин. Канович проецирует эту ситуацию на семью литовских евреев. Получается скромнее, но многозначнее: Шахна Дудак (он же Семен Ефремович Дудаков) — всего лишь переводчик жандармского управления; Гирш Дудак — всего лишь рядовой член террористической организации, совершивший неудачное покушение на губернатора. Спор идет не на уровне «больших идей», а на уровне инстинктов. Канович вообще избегает масштабных идеологических конструкций, милых, скажем, Горенштейну. Но он обладает природным чувством — поэтическим чувством, я бы сказал, — которое позволяет ему так расставить героев и так выстроить сюжет, что в книге начинает читаться больше, чем, может быть, автор сознательно хотел высказать. Отец — кладбищенский каменотес, бывший солдат, создавший за полвека все надгробия кладбища — того самого, на котором сорок лет спустя проходит детство Даниила (здесь сюжеты двух трилогий сходятся); старший сын — интеллектуал и чиновник, второй — террорист, третий — бродячий актер. Как по-разному можно истолковать эту коллизию!
Действие второй части романа («Не отврати лица от смерти») происходит тридцать восемь лет спустя, в дни советской оккупации 1940–1941 годов. Мы видим события, описанные в «Свечах на ветру», с другого ракурса. Данута, подруга скомороха Эзры, перешла в иудаизм и поселилась среди евреев, но до конца жизни сохранила польский шляхетский гонор. У нее двое сыновей — один от Эзры, другой от его брата, давно утратившего рассудок Шахны. Роман заканчивается ее смертью. Начинается — смертью бывшего жандармского переводчика. Их сын, Аарон, становится сотрудником НКВД и готовит списки для депортации «классово чуждых элементов». А безумный старик Семен Мандель, сын корчмаря Ешуа, сосланного некогда по обвинению в ритуальном убийстве, все ждет Мессию. Но приближается не Избавитель — неотвратимо приближается Дритер Хурбн, Третье Разрушение Храма, — гибель мира, который описывал писатель Григорий Канович.
3
Нет уже не только мира, который Канович описывал, но и мира, в котором он жил и писал. Имперский писатель, он остался без империи. Писатель традиционного мира, он остался без последних читателей, вживе помнящих этот мир. Писатель ашкеназийского, восточноевропейского еврейства, он, по сути, пережил свой этнос.
Побрезговав статусом главного еврея свободной Литовской Республики (для предъявления Совету Европы), он уехал в Израиль. Его книги девяностых — «Парк евреев», «Продавец снов» — написаны как будто после конца света. Это книги о людях, подобно самому писателю, надолго переживших свой мир (мир, становящийся все более иллюзорным, — герой «Продавца снов» живет тем, что рассказывает эмигрантам из Литвы сказки о якобы сохранившихся в неприкосновенности местах их детства). Тем важнее для писателя доказать реальность своих воспоминаний. Описав круг, Канович возвращается к тому же, с чего начинал, — к прямому автобиографизму, к безыскусному рассказу о пережитом. «Непридуманная повесть» об отце — «Шелест срубленных деревьев» — высоким простодушием и непосредственностью напоминает «Я смотрю на звезды». Это — реквием по последним остаткам старой еврейской Литвы, доживавшим свой век в Литве советской. И это последняя дань памяти тому миру, из которого писатель вышел и который он сделал фактом литературы — русской и еврейской. |
    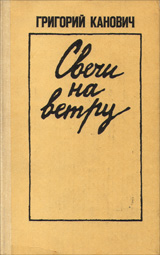      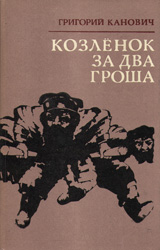      |



