|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 36 / Декабрь 2001 Рецензия
|
|
||||||||
|
Роман Давида Маркиша двадцать лет назад вышел в Израиле под удачным названием «Шуты». Нынешнее название — зазывное: чтобы всем сразу стало понятно, о чем речь[1].
На самом деле роман не об одном еврее, а о нескольких. А сама петровская эпоха воспроизведена романистом, скажем так, с большой степенью условности. Как справедливо отмечает автор послесловия А.Иконников-Галицкий: «Не в обиду автору будь сказано: может показаться что, кроме школьного учебника и… романа А.Н.Толстого "Петр Первый", никакой иной историографии о Петровской эпохе… он не читал». В самом деле: сэр Исаак Ньютон бранит Меншикова «хулиганом» — лет за сто до рождения кровавой семьи Хуллиген… В начале XVIII века поют частушки — хотя до появления этого жанра народного творчества должно было пройти еще полтора столетия. А юный Алексашка Меншиков дразнит юного Петрушу Шафирова так:
Если в речке нет воды…
Понятно, кто выпил; «кран» из современной дразнилки заменяется на «речку» — и она становится дразнилкой XVIII века. Осознает ли автор аляповатость построенных им исторических декораций? Остраняющая ухмылка, которая в этом случае была бы очень кстати, отсутствует. Что можно воспроизвести по А.Н.Толстому или по Юрию Герману («Россия молодая»), то аккуратно воспроизводится. Что у Толстого не описано — с тем фатально случаются проколы. Единственное серьезное отступление от исторических стереотипов: чтобы спасти русское войско и царя во время Прутского похода, Екатерина I дарует турецкому паше не золото с брильянтами, а совсем иные свои сокровища. Вполне в духе популярнейшего русского автора 1981 года (когда писался роман «Шуты») — Валентина Саввича Пикуля. Черты немудреной бульварщины заметны в романе и дальше (история Рене Лемора и дочери Лакосты).
Попросту говоря: услышал Давид Маркиш, сын великого еврейского поэта, что при Петре в России жило некоторое количество этнических евреев — шут Лакоста, вице-канцлер Шафиров, петербургский полицмейстер Дивьер (точнее, Девиер), купцы Веселовские, — и поместил их в свое, сформированное по плохой беллетристике, представление о том времени. Понять, что себе эти люди думали и чувствовали, таким образом трудно — ну так ведь речь-то в книге на самом деле не о них…
И А.Н.Толстого, и Пикуля Маркиш, конечно, читал, но был у советских евреев собственный любимый исторический сочинитель — Лион Фейхтвангер. А в его романах тоже там и сям попадаются анахронизмы, в Древнем Риме и средневековой Испании действуют министры, генералы и, конечно, антисемиты. Фейхтвангер писал не о Риме и Кастилии, а о немецких евреях 1920–1930‑х годов. Маркиш своим романом претендует на роль Фейхтвангера советского еврейства. Но, во-первых, Фейхтвангер модернизировал прошлое тонко, со знанием дела, современные мысли и реалии у него аккуратно вмонтированы в достоверно воспроизведенные декорации прошлых эпох; во-вторых, будучи, на нынешний взгляд, не самым большим писателем, он все же владел ремеслом сочинения реалистической прозы — действия и речи его героев психологически убедительны. Тогда как герои Маркиша при первой же встрече вываливают всю свою подноготную, чтобы облегчить жизнь автору. (Разумеется, первейшее, что должен сообщить беспаспортный иностранный матрос, устраиваясь на службу к русскому царю, — это что он «сефард, то бишь португальский еврей». Между прочим — из Португалии евреи были изгнаны еще в конце XV века. Дивьер-Девиер, конечно, был выкрестом.) Ну и наконец — в Германии времен Фейхтвангера существовало такое понятие, как еврейская мысль, от Розенцвейга и Бубера до иудео-марксиста Вальтера Беньямина, тогда как в Советском Союзе начала восьмидесятых специфически еврейская духовная жизнь почти ограничивалась кружками иврита для отказников.
Главные герои романа Маркиша, Петр Павлович Шафиров и шут, бывший финансист Лакоста, воплощают два самых распространенных типа «хорошего советского еврея». Первый — честный и смиренно-мудрый чиновник-конформист, играющий по правилам, навязанным режимом, но при том стремящийся его несколько рационализировать и очеловечить. Второй — еврейский интеллигент, еврейский гуманитарий, человек искусства, публицист, в меру диссидент, не приложимый к делу, но истину царю с улыбкой говорящий[2]. Такую вот истину:
Национальные интересы — это и есть новые сапоги и лишний кусок мяса. Разве русские люди стали счастливей оттого, что царь их завоевал Азов и Санкт-Петербург? <…> Петр засопел сердито, спросил, помолчав: — Ты сколько лет в России живешь? — Скоро двадцать пять лет, Ваше Величество, — сказал Лакоста. — А — чужой! — крикнул Петр. — Все по своей жидовской мерке меришь!
Держу пари, что историческому Петру Великому такого не говаривал никто — не додумались еще до всех этих новоевропейских либеральных идей! Маркишевский Петр склонен считать их «жидовскими». Похоже, и Лакоста тоже. И автор… «Еврейское» ассоциируется с набором благородных трюизмов, почерпнутых в ночное время из передач радио «Свобода».
Мир, окружающий Шафирова и Лакосту, освоить эти трюизмы не в силах, он ужасно варварский, а самое главное — ужасно антисемитский. Русские антисемиты мгновенно идентифицируют главных героев романа как евреев и в дальнейшем воспринимают их только и исключительно в этом качестве. Но поразительно другое: сами еврейские персонажи романа, беспрерывно обсуждающие свое еврейство, делают это исключительно в связи с антисемитизмом и в контексте антисемитизма. «Для приятелей ваших вы еврей, для неприятелей — жидовская морда. <…> Почему мы всегда ищем любви к себе как к евреям, а не просто как к людям! — не отвечая Шафирову, сказал Лакоста. — "Русские не любят евреев". "Немцы любят евреев"... Ведь если какой-нибудь Мойше разбойник и вор, то он разбойник и вор не потому, что он еврей, а потому, что он плохой человек. А если Мойше герой и все его любят — значит, он хороший и мудрый человек, и еврейство его здесь ни при чем». Московская кухня, одним словом. Но неужели еврейские разговоры на московских кухнях семидесятых были настолько простодушны? Выходит, что так.
Но, что хуже всего, герои романа не просто зациклены на теме антисемитизма, который является для них чуть ли не главным источником самоидентификации, — они видят себя глазами антисемита, меняя только знаки — с минуса на плюс. Особенно характерно описание «плохого» еврея — Дивьера, кровавого руководителя строительства новой столицы, коменданта Санктпитербурхлага, так сказать.
— Как ты, должно быть, ненавидишь эту страну!.. — прошептал Лакоста. — Ну нет! — с живостью отозвался Дивьер. — Поверь мне, нисколько! Она мне просто чужая, совершенно чужая, с самого первого дня. И люди — чужие… <…> Нет, в сущности, у меня такой страны, где кругом все были бы свои — как ты, как даже Шафиров. Конечно, ты понимаешь, что вас я не стал бы селить в бараки по пятьсот человек только потому, что царь Петр хочет построить город…
Ведь это же — мифология журнала «Наш современник». (И не в том беда, что «Нашего современника», а в том, что мифологема эта совершенно не подтверждается фактами: что там было в голове у Дивьера — тайна за семью печатями, но вот что чекисты-евреи не делали для «своих» ни малейшего исключения, это точно. А ведь Маркиш, повторяю, пишет не о Дивьере, а о чекистах.) Еврейский злодей, не забывающий о национальной солидарности. Злодей-то злодей, но при том… Волевой человек, видный собой (кстати — видел ли Маркиш портрет исторического Девиера? В самом деле — писаный средиземноморский красавец!), женатый на сестре Меншикова, силач. Вообще Маркиш всех своих «евреев Петра Великого» наделяет недюжинной силой и ловкостью — Петруша в драке оказывается здоровей Алексашки, что возможно; шут Лакоста на поединке побеждает французского дворянина, что уже сомнительно… Но в железные мускулы бывшего пирата Дивьера веришь больше. «В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса!» — песня, написанная одним советским евреем… Плохой еврей (разудалый Беня Крик, беспощадный товарищ Левинсон) для хорошего советского еврея — предмет и порицания, и зависти.
Кроме хороших и плохих евреев, в книге появляется еврей дикий, по выражению Шафирова, или «правильный», по подразумеваемой противоположной оценке. Человек, приезжающий из Смоленска, чтобы объяснить петербургским ассимилянтам, что перед Пейсахом из дому надо убирать квасное, что еврейский мужчина должен носить не парик, а ермолку, — парик должна носить еврейская женщина. На роль образцового носителя старых еврейских ценностей Борох Лейбов, однако, годится не вполне: исторически известен он, прежде всего, тем, что (и этот факт отражен в романе) обратил в иудаизм некоего капитана Возницына (обоих, Лейбова и Возницына, сожгли). Не надо быть большим специалистом по еврейской религиозной традиции, чтобы знать, как осторожно (по меньшей мере!) относится она к прозелитизму. Здесь тоже все характерно: советский еврей-ассимилянт не только не может определиться по отношению к своим этнорелигиозным корням — он скверно представляет себе, каковы эти корни и в чем их суть. Приехал кто-то с бородой и пейсами, то ли мудрец, то ли дикарь, то ли носитель утраченного канона, то ли сумасшедший еретик…
Ну и еще один элемент романного мира — «светлый Запад», где антисемитизма, конечно, нет. Лакоста в Гамбурге совершенно не ощущал дискриминации. «Немцы евреев любят». Там полным-полно еврейских врачей и адвокатов. (Правда, Ньютон сразу распознает в Шафирове еврея, так ведь он и сам Исаак. Может, своего опознал.) Да и на этом светлом Западе нет вечного укрытия русскому еврею. Лакоста эмигрирует — точнее, возвращается в Гамбург. Двести лет спустя его потомки гибнут в Бухенвальде. Но — все-таки двести лет… Только — внимание, тут мы возвращаемся из созданного фантазией Давида Маркиша мира в реальную историю! — этих благополучных двух столетий не было. Потому что (внимательнее надо бы читать Фейхтвангера!) в Германию Лакоста возвращается в 1738 году — аккурат к процессу еврея Зюсса.
В реальной истории выкрестам Шафирову, Дивьеру и Лакосте жилось в России гораздо лучше, чем жилось бы в Западной Европе: Россия начала XVIII века была настолько патриархальна, что к крещению еврея там (пока что!) относились всерьез. Да и не копались особо в происхождении служилых иноземцев (о еврейском происхождении еще одного петровского сподвижника — Виллима Геннина, основателя Екатеринбурга, — стало известно лишь несколько лет назад). А на Западе, уже вступившем в Новое время, созревали семена нового антисемитизма — не религиозного, а расового (при том, что до эмансипации евреев было еще очень, очень далеко — какие там врачи и адвокаты! Мозес Мендельсон только-только родился…). Например, историческому барону Шафирову, вопреки тому, что пишет Маркиш, даже во время суда над ним в 1723 году никто, кажется, не припомнил его еврейской крови. А в 1730-м консерваторы (князь Дмитрий Голицын, старая царица Евдокия, мать царевича Алексея и бабка Петра II) пытались сместить «немца» вице-канцлера Остермана, вернув на эту должность «русского человека» Шафирова. Для русских людей он был русским. Напротив, один из немцев, общавшихся с Петром в дни Великого Посольства 1697 года, был шокирован тем, что царь «ест за одним столом» с состоящим в его свите евреем (то есть — Шафировым, других не было). И, конечно, Бороха Лейбова, обратившего в свою веру христианина, немедля сожгли бы в любой европейской стране — даже в либеральной Голландии, пожалуй.
Наложение второй половины XX века на первую половину XVIII-го не работает. У той либеральной и юдофильской Европы, которую представляет себе Маркиш, Холокост не впереди, а позади, а что впереди — кто ведает? Но мысль об Аушвице и Бухенвальде подрывает веру советского еврея в то, что прогресс ведет к исчезновению антисемитизма. Пусть даже самое страшное относится далеко — в вековую перспективу…
Но ведь есть и другая перспектива. «Пока у нас нет своей земли, мы не можем быть, как все. А если у нас появится своя земля и свой царь — мы станем, как все, но тогда мы перестанем быть евреями…» Однако не перестали же? И Давид Маркиш, уехав в еврейскую землю, не перестал быть еврейским — русско-еврейским — писателем. Уж каким ни есть.
Об еще одной перспективе упомянул, споря со своим братом, Шимон Маркиш — в статье, напечатанной вскоре после первого издания «Шутов». Почему, писал он, Давид Маркиш, говоря о вымышленных потомках Лакосты, не упомянул об исторически реальных потомках Шафирова? Их-то судьба сложилась блистательно. Среди них — князь Петр Андреевич Вяземский, граф Сергей Юльевич Витте. Правда, кому-то из них пришлось и повалить лес под началом новейшего Дивьера — но совершенно вне связи с еврейским происхождением их дальнего предка… Одно дело — оставаться евреем вынужденно, под давлением внешнего антисемитизма, другое — сознательно отвергать соблазн легкой и выгодной ассимиляции. Но индивидуальный выбор перед лицом этого соблазна — тема другого романа. Давид Маркиш писал о Петровской эпохе, а создал модель социального бытия среднего советского еврея. Поэтому его книга весьма любопытна и познавательна, несмотря на полнейшую историческую недостоверность и скромные литературные достоинства. [1] Маркиш Д. Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей (1689–1738): Роман. СПб.: Лимбус Пресс, 2001. 336 с. (Метро). 5000 экз. [2] Еврейский «шут» в брежневском СССР — это особая, долгая тема. Жванецкий, выступающий с сатирическими монологами перед голыми вождями в номенклатурной сауне; Райкин, пользующийся личным покровительством генсека и допущеннный к его «двору», — о, какую книгу мог бы написать, связав их судьбу с судьбой Лакосты, писатель большего, чем Маркиш, таланта…
|
 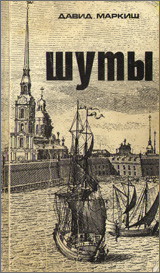 |


