|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 24 / Декабрь 1999 Обзор
|
|
||||||||
|
Егупец, как помнит читатель, — это название Киева в произведениях Шолом-Алейхема, иронический псевдоним Города, где еврею очень хочется жить и где еврею жить нельзя, если, конечно, он не сахарозаводчик Бродский. «Егупец» — это имя избрали для своего детища издатели ежегодного альманаха, с 1995 года выпускаемого в свет киевским Институтом иудаики[1].
Пять томиков, стильно оформленных Виктором Хариком, лежат на моем столе. К своему удивлению, я всё в них прочитал. И сделал первый вывод, коим и должен поделиться во первых же строках: что-то лучше, что-то хуже, но практически ничто не вызывает сомнений — редакции удалось установить весьма высокие критерии качества.
Второе свойство «Егупца», сразу вызывающее к нему симпатию, — его принципиальная непровинциальность, открытость различным мнениям и стилистическим направлениям, отсутствие какого-либо духа сектантства. Это отражено и в языковом плюрализме издания, где соседствуют тексты, напечатанные по-русски и по-украински.
Ключевой, цементирующий слой альманаха — воспоминания, мемуары, семейные, военные и лагерные хроники. Рассказы от первого лица, рассказы единиц об умерших, убитых или уехавших тысячах тысяч, рассказы нередко фрагментарные и оттого смущенные. «Как звали наших пра- и прапрародителей? Чем они занимались для обеспечения куском хлеба в будни и халой в субботу?.. Ничего этого достоверно мы не знаем. Горько и стыдно сознаваться в этом, хотя мы, к сожалению, не исключение», — пишет в своем мемуарном эссе Фаина Браверман-Горбач (2)[2]. Может быть, странно, а скорее — абсолютно естественно, что именно искусственное отдаление от корневых истоков служит импульсом к возврату: «Желание изучать свою родословную появилось у меня от того горестного осознания, что никакой родословной я не знаю», — констатирует Гелий Аронов в очерке «Моя родословная» (1), прослеживающем две линии происхождения автора — еврейскую и украинскую. И вот что важно: как органичен в еврейском издании рассказ украинской женщины о своей жизни, о детском приюте, немудреный, наивный, но воссоздающий картину жизни евреев на Украине. Ибо главная, пожалуй, тема «Егупца» — это общая судьба — евреев, Украины и России, иудеев и христиан, общая история, давняя и недавняя, нередко и Историей еще себя не осознавшая. Воспоминания Ефима Чеповецкого о полных энтузиазма 1920-х годах (1) и тонкий, ностальгический рассказ Александра Павлова «Белый духан на углу» (3). Химерический мир сознания идейной сталинистки в «Книге блуждающей в пустыне» Владимира Дрозда (3). Пятидесятые, совсем по-новому оцениваемые уже в девяностых героями Анатолия Нимченко (1, 2)... Все это — то прошлое, участником которого успел ощутить себя каждый автор. Прошлое, в котором еврейство было непременным и естественным компонентом Киева, неотъемлемой частью его жизни. Киев предстает перед читателем в двух важнейших ипостасях. В эссе Виктора Малахова «Родина (заметки киевлянина)» (1) — высочайшего качества рассуждении о родине и народе — он явлен как «место наибольшей внятности бытия», как архетип родины, как новый Иерусалим. Проза Якова Лотовского дает иной Киев, колоритный подольский быт выходит у него ароматным, как украинский борщ. Смешная и печальная его притча «Вспыльчивая старуха и жестянщик» (1) — шарж на ушедший в прошлое Подол и плач по нему.
Семейная хроника, семейный альбом — один из важнейших жанров альманаха. «У меня было три тетки», — начинает свой поразительный рассказ Селим Ялкут (4). Вечное общение, непрерывность духовной связи с родителями — основное содержание поэзии Вениамина Блаженных (1, 2, 4). Тети, дяди, родители и соседи — вот важнейшие герои, ибо через них осуществляется связь с вечностью — как и через место нашего рождения и детства, навсегда сохраняющее над нами сакральную власть. Поэтому так увлекательно путешествие с Михаилом Могилевичем в далекий, докатастрофический Чернобыль (5), в Яругу Моисея Гойхберга (3), Калиновку Семена Жураховича (2), придуманную Володарку Ирины и Яна Златопольских (1). Во сне, неотвязно-настойчиво воссоздающем детство, приходит к режиссеру Натану Ширману его и моя родина — Кривой Рог, где повседневные реалии неказистой Немецкой улицы причудливо сплетаются с ирреально-феллиниевскими циркачами, неожиданно встреченными в дальнем далеко (3).
Этот прекрасный и туманный мир резко отграничен чертой Катастрофы. Время и люди безжалостно ею разделены, и Бабий Яр неумолимо заставляет думать о себе. Статья Игоря Минутко (1) об Анатолии Кузнецове и его романе-документе рисует самоубийственное падение талантливого писателя. Сломленный еженощным криком тысяч убитых, приходящим во сне, Кузнецов разочаровался в человечестве, ему стали безразличны и свой компромисс с властями, и потеря собственной личности. Жесткие рассказы Риталия Заславского «Сенька-извозчик» и «Лукинична» (1), стихи Романа Левина, трижды спасенного из-под расстрела (3), рассказ «Конокрад» Александра Жовтиса (2), рассказы израильтянина Ицхокаса Мераса (3, 5), чудом пережившего Катастрофу и всю жизнь пишущего о ней по-литовски, полны трагизма, но присутствует в них и луч света. В гибнущем мире были и герои, и спасители. Один из самых незабываемых человеческих документов, повествующих о Бабьем Яре, — стихотворение Людмилы Титовой (1). Русская женщина отправилась в Яр проводить соседку. Кордон полицаев сомкнулся за ней, она перешла черту, и лишь случайно оказавшийся при себе паспорт спас ей жизнь.
Драматическая история выступления Ивана Дзюбы в 25-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яре (1) рассказана документально-сдержанно. Анонимно опубликованная рецензия, найденная в архивах КГБ, говорит о времени и персонажах не менее, чем сама речь. Кажется, Шлегель говорил, что происходящее наяву невозможнее, чем вымысел самого изощренного автора. Поразительны воспоминания Евгения Якера (5). Разве может писатель заставить своего персонажа-врача оперировать ночью в лагерной больнице и спасти жизнь полицая, издевавшегося над ним в гетто? Только жизнь может создать такой сюжет...
Среди постоянных авторов альманаха, определяющих его лицо, — литературовед Мирон Петровский и переводчик Риталий Заславский. Воспоминания Петровского о Лиле Брик (3), Самуиле Маршаке (4) и Аркадии Белинкове (5) написаны мастерски, серьезный литературоведческий анализ соседствует в них с острым, молниеносным даром зарисовки. Трогательные, теплые портреты Заславского (2, 3, 4, 5) образуют своеобразную галерею еврейских советских писателей Киева. И хотя жизнь Ривы Балясной и Исаака Кипниса, Шлоймы Чернявского, Михаила Могилевича и Петра Киричанского полна была отнюдь не только звуков сладких и молитв, но подборки их стихов отличают чистота и подлинность.
Земля Израиля, ее сегодняшняя жизнь стала темой произведений и тех, кто живет в ней, и тех, кто лишь посетил ее. Апокрифы Давида Маркиша (3) и главы из автобиографического романа «Соленой дорогой» Бен-Циона Томера (3) представляют сегодняшнюю израильскую прозу; прекрасные и совершенно непохожие подборки Вадима Гройсмана (3, 5), Рины Левинзон (2), Марины Левиной (3, 5), Михаила Генделева (4), Геннадия Беззубова (5) — поэзию. Рассказы Леонида Пекаровского (3, 5) — яркий, нетривиальный взгляд на Израиль изнутри глазами «искусствоведа с метлой», интеллигента новой алии. «И слава Б-гу, мусор есть, много мусора, а значит, есть и хлеб мой насущный»... Взгляд Селима Ялкута (4), киевского врача и блестящего писателя, посетившего землю предков, еще острей и проницательней.
Существуют беспроигрышные ходы — например, опубликовать Исаака Башевиса-Зингера (5), неизвестного Исаака Бабеля 1917–1920-х годов (2), и это хорошо и необходимо. Но есть открытия, приход к которым не столь очевиден, — химерический, кафкианский или хичкоковский мир Бруно Шульца (1), узника дрогобычского гетто, писателя европейского масштаба, превосходно переведенного на украинский М.Яковиной и Т.Возняком. Речь С.Ан-ского «Шолом-Алейхем, Перец и Фруг» (1). Еврейские народные песни, собранные великим фольклористом Моисеем Береговским, в чудесных переводах Елены Баевской и Михаила Яснова (4). Огромную ценность представляют фрагменты из мемуарной «Книги ночей» кинодеятеля и драматурга Александра Вознесенского (2, 4). Наконец, исторический характер имеет публикация воспоминаний Аарона Штейнберга о его встрече с Василием Розановым в разгар дела Бейлиса в 1913 году (4).
Два основных направления характеризуют публицистический раздел — их можно определить как «мифы и диалоги». Мифы о еврействе, созданные брутальным слоем массового сознания, имеют огромную историю, и наивно лишь отмахиваться от юдофобии, надеясь, что всем очевидна ее несостоятельность. В заметках Вадима Скуратовского «Протоколы сионских мудрецов — к анатомии одного мифа» (3) истоки «Протоколов» анализируются с научной достоверностью, не ограничиваясь констатацией каиновой печати тайной полиции, которую несет на себе этот чудовищный подлог. «Протоколы, — замечает автор, — по-видимому, обладают совершенно демонической мощью своей мифологической структуры, вот уже столетие исправно работающей на всем пространстве массового сознания этого века»... Изощренную психоаналитическую интерпретацию обыденного восприятия еврейства дает Александр Кантор в эссе «Россия и евреи в конце ХХ столетия: кастрация и нарциссизм» (5). В публикуемой Михаилом Кальницким «Записке о сохранении самобытности Киева» Андрея Муравьева (1870-е годы) (5) явлена анатомия «просвещенной юдофобии». Романтизируя патриархальность, с антибуржуазным пафосом Муравьев борется и с театром, и с евреями, и с ученостью, и с железной дорогой.
К сожалению, старые мифы по-прежнему востребованы. В «Деле Звягильского» Владимира Миндлина (3) освещается не столько головокружительная карьера бывшего и. о. премьера Украины и его неожиданный уход с политической арены, сколько антисемитский подтекст подачи этих событий в целом ряде СМИ. Открытое письмо украинского философа и правозащитника Мирослава Марыновича в газету «За вiльну Україну» (2) осуждает публикацию в ней — в наш просвещенный век — откровенно антисемитских материалов. Статья Бенедикта Сарнова «Возвращение Андрюши Ющинского» (5) показывает, как смело и нестандартно использует старые мифы пресса, дискредитирующая само понятие патриотизма. Одному из авторов альманаха, художнику Михаилу Туровскому, принадлежит афоризм: «История повторяется. С евреями она повторяется чаще»...
Другая часть раздела публицистики связана с диалогом. Диалогом как образом мышления. Встречи Амвросия Бучмы и Соломона Михоэлса в статье Валентины Заболотной (3), дневниковое эссе крупнейшего украинского филолога Андрея Белецкого «Уж не еврей ли я?» (3) передают чистый взгляд на диалог как средство сближения и самопостижения. Интернационализм Белецкого не ведет к обезличиванию наций, он выражен, прежде всего, в стремлении постичь культуру, мышление, дух другого. «Читая “Илиаду” — я эллин, читая Ветхий Завет — я иудей», — пишет он. Диалог возникает между мыслящими людьми и в самых тяжелых условиях — примеры взаимного сближения евреев и славян мы находим в лагерных воспоминаниях Юрия Вудки и Михаила Хейфеца (2).
Тему диалога продолжает историческая публикация на украинском языке документа ватиканской комиссии по религиозным отношениям с евреями «Мы помним: размышления о катастрофе» (5), предваряемая посланием Папы Иоанна Павла II 1998 года: «Очень часто в годы своего понтификата я вспоминал с чувством глубокой скорби страдания еврейского народа во время второй мировой войны»... Диалогу культур посвящены и другие материалы. Тема «Евреи и Украина» нашла отражение в статьях Тараса Гунчака (1) и Иосифа Зисельса (4). О русско-еврейской культуре рассуждает Шимон Маркиш (2). Мысли Владимира Жаботинского об Украине стали материалом эссе Израиля Клейнера (1). Вообще Жаботинский выступает на страницах «Егупца» нередко с неожиданной стороны. Его рисунки (5) характеризуют в высшей степени остроумного человека, таким — жизнерадостным, многосторонне одаренным — предстает он и в статье Марка Соколянского, освещающей наименее изученный, одесский, период жизни Жаботинского (2). Объем обзора не позволяет сказать обо всем значимом, что вместили пять вышедших на сегодня номеров «Егупца». Пять номеров — для ежегодника это уже стабильность. Не единовременное событие, а устойчивая часть культурного процесса. И она тем более значима, что «Егупец» — одно из немногих еврейских изданий, появившихся в бывшем СССР за последние 10 лет, сумевшее преодолеть внутриобщинные рамки. Оставаясь изданием несомненно еврейским, альманах занял свое место среди традиционных «толстых» литературно-художественных журналов и обращен к интеллигентному читателю вообще. [1] Егупец = Єгупець: Худож.-публiцист. альманах Асоц. юдаїки України / Ред. Г.Аронов. Вип. 1– . Київ, 1995– . С 1996 пiдзаг.: Худож.-публiцист. альманах Iн-ту юдаїки. На рус. и укр. яз. Вип. 1. 1995. 200 с.: iл. Вип. 2. 1996. 216 с.: iл. Вип. 3. 1997. 278 с.: iл. Вип. 4. 1998. 299 с.: iл. Вип. 5. 1999. 336 с.: iл. [2] Здесь и далее указываю в скобках номер альманаха, где опубликован упоминаемый материал. |
  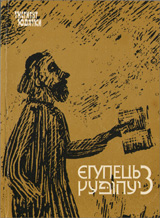   |


