|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 145 / Октябрь 2020 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Дмитрий Бирман. Два рассказа. Дружба народов, 2020, № 3
Неуклюжая «дубовая» проза с неумелыми диалогами. В первом рассказе старый немец из Регенсбурга по имени Ганс рассказывает другу своей внучки, еврею из России, прабабушку которого спас от смерти Шиндлер (уже дешевая литературщина!), о русском солдате Петре Кузине, чья доброта и щедрость помогли ему выжить в плену. Во втором рассказе тоже звучит «эхо прошедшей войны»: описывается, как при помощи шести бутылок «Абсолюта» члены официальной российской делегации сумели достойно отпраздновать 9 мая в Эдинбурге.
Ефим Бершин. Стансы. Из книги «Мертвое море». Дружба народов, 2020, № 3
Стихи московского поэта про землю Израилеву, умело сбитые, по духу — скорее христианские, чем еврейские. Например:
Неподвластный лжецу, продавцу, свинцу, я крадусь по камням необъятной Твоей пустыни, где еще не забыта земная тоска по Отцу, но уже проснулась земная тоска по Сыну.
Михаил Румер-Зараев. Исчезнувший мир. Документальная повесть. Дружба народов, 2020, № 4–6
Не то воспоминания, не то рыхловатая повесть про журналиста-пенсионера. Исчезнувший мир советской прессы, освещавшей будни и праздники народного хозяйства, вызывает у автора скучноватую ностальгию. Даже анекдоты из редакционной жизни однообразны и тусклы:
Во фразе «ЦК КПК дал указание всем парторганизациям Китая» вместо слова КПК было напечатано КПСС. Корректор, переливая строку из-за орфографической опечатки, ночью, ошалев от усталости, вставил это слово без моего редакторского ведома, что спасло меня от строгача.
Среди прочего герой-рассказчик вспоминает поездку в Израиль в начале 1990-х и посещение одного из еврейских мошавов Газы:
Я стоял в обществе рыжеволосого иудейского крестьянина, всю жизнь посвятившего освоению новых территорий, превращению этих пустынь и болот в плодоносные, цветущие угодья. И он, махнув рукой на юг в сторону Синая, сказал: «Там тоже наши земли». — «Почему вы так считаете?» — спросил я. — «Так в Библии говорится», — ответил он. А я в соответствии со своим либеральным сознанием российского интеллигента сказал: «Ну, тогда и Москва должна принадлежать Финляндии, там некогда жили финские племена». — «Вы зря ему это говорите, он все равно не поймет ваших аллюзий, — сказал мне переводчик, в недавнем прошлом россиянин. — Да и что толку в подобных сравнениях? Он чувствует эту землю своей, все силы отдает ее освоению и окультуриванию — в отличие от российских крестьян, забрасывающих свои земли».
Болезненная дискуссия не состоялась, и разговор плавно перешел к свайным поселениям времен неолита. В связи с такими поселениями (на территории России их тоже находят) герой и вспоминает визит в газский мошав.
Эмиль Паин. Об имперском синдроме, национализме и негативных этнических стереотипах. Дружба народов, 2020, № 4
Этнолог и политолог пишет о сохранении в постсоветской России «имперского синдрома» и анализирует социологические данные об этническом негативизме. Сообщает, например, что, согласно опросам 1990-х, в глазах русских представители иных национальностей делились на нелюбимых «чужих» (цыгане, кавказцы), вполне принимаемых «своих» (украинцы, белорусы, татары, башкиры) и занимающих промежуточное положение между этими категориями «других». В числе последних оказались и евреи, вызывавшие (как и жители Прибалтики) неприятие относительно небольшой, хотя и заметной части населения. В 2000-е ситуация поменялась: «Более чем в 4 раза снизилась нелюбовь к евреям (с 17.4% до 4.9%)…» Автор забывает лишь уточнить, в какой именно период произошло это потрясающее изменение. Между тем сопоставлены данные 2010 и 2015 годов, а значит — речь не о «коренном переломе», а о «загадочном» явлении, которое сам же Паин описывает так: «…после присоединения Крыма что-то необъяснимое случилось с массовым сознанием россиян: ими вдруг овладела любовь ко всем этническим группам, ну уж во всяком случае резко оборвалась нелюбовь к большинству этнических групп». К сожалению, в статье не сказано, что уже к 2019 году отношение к евреям возвратилось к прежнему «докрымскому» уровню.
В целом позиция Паина по «еврейскому вопросу» в сегодняшней России весьма оптимистична: «Глубинного, массового, накопленного, исторически удерживаемого антисемитизма здесь почти нет, во всяком случае, нет как массового явления». Мы не ослышались? Ученый заявляет, что у антисемитизма на отечественных просторах отсутствуют давние культурные корни?
Ефим Гаммер. Последний выстрел Победы. Повесть. Дружба народов, 2020, № 5
Приходится повторить то, что уже доводилось писать о Гаммере: удивительное сочетание несомненного таланта с полным отсутствием вкуса.
Повесть — в трех частях. Первая написана отлично. Послевоенное детство, игры в войну, киносъемки в массовке, пленные немцы, которые, совсем по Высоцкому, «на хлеб меняли ножики». Всё это Гаммер уже описывал… Но отчего еще раз не прочитать?
Вторая часть — о боксерской карьере в Израиле и принципиальнейшем матче между сборными Иерусалима и Западного Берлина. Тоже лично пережитое. Уже немного пафосно, но все равно неплохо.
И, наконец, третья часть… Тут уж какая-то почти бульварная фантастика:
Я и начал стрелять, раз за разом всаживая свинец в окно на первом этаже коттеджа. Темный силуэт за подоконником не исчезал, огрызался огнем, но почему-то с недолетом. Что бы это значило? И вдруг я осознал. Снайпер целится не в меня — я еще далек от него и, вероятно, по его мысли, менее опасен, чем бегущий впереди человек с пистолетом. Этим человеком был гауптштурмфюрер Эрнст Фогельзанг, прибывший в Израиль под именем Эрнесто Фога, чтобы активизировать палестинский террор. Здесь он и нашел смерть.
Разумеется, это связано со «сквозной» темой: Вторая мировая война, память о Холокосте, отношение к немцам… но звучит до крайности выспренне и неубедительно.
Катя Капович. Про счастье быть снова живым. Стихи. Дружба народов, 2020, № 5
Капович — хороший поэт, но эти стихи не из самых удачных. Темы — глобально-исторические, и размашисто-неточный подход к ним (как на уровне мыслей, так и на уровне просодии), видимо, поэзии вреден.
Я одна из шести миллионов, мой Боже, из убитых на бойне Второй мировой. Мы лежим под Бржезинкой в расстрелянной Польше, над широкою Вислой нам — вечный покой.
Здесь мы сгинули все в сорок третьем без смысла, где стояли один к одному, как трава. Призри, кто-нибудь, нас над широкою Вислой, руки вдевших навеки в ее рукава.
В первой строфе автор отождествляет себя с шестью миллионами жертв Холокоста. Бржезинка — деревня неподалеку от польского городка Освенцим, именовавшаяся по-немецки Биркенау. Именно здесь располагался печально знаменитый лагерь смерти Освенцим II, другое название — Освенцим-Биркенау. Но тут же, во второй строфе, просматривается аллюзия на песню Галича («Где полегла в сорок третьем пехота, без толку, зазря…»), а она — о совсем других эпизодах и иных трагедиях. Неужели эта двусмысленность — часть авторского замысла?
Евгений Солонович. Вернуться Поесть Рассказать. Дружба народов, 2020, № 5
Небольшая подборка стихов Примо Леви, предваряемая кратким эссе переводчика. Одно из стихотворений — «Выживший» — завершается таким обращением к «канувшим»:
«Прочь, канувшие, уходите, Отстаньте, я ничье не занял место, Я хлеб ни у кого не отнимал, Вместо меня никто, никто не умер, Ступайте, возвращайтесь в свой туман, Моей вины нет в том, что я живу, И ем, и пью, и утром одеваюсь».
Потрясает созвучие между этим текстом в переводе Солоновича и хрестоматийным русским «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны…». Только вот итальянский поэт, прошедший Освенцим, был гораздо ближе к смерти, чем Александр Твардовский…
Другое стихотворение — про сгоревшую заживо девочку из Помпей, которая оказывается «далекой сестрой» Анны Франк, «описавшей детство без будущего», и безымянной «школьницы из Хиросимы».
Мария Михайлова. Время не властно… Дружба народов, 2020, № 6
Автор рецензии на книгу Рады Полищук «Конец прошедшего времени» (М.: Текст, 2019) сразу же, что называется, берет быка за рога:
Особенность ее творчества — это, если можно так выразиться, «русско-еврейский диалог», который происходит на страницах ее книг, ибо герои ее произведений — это люди русской и еврейской национальностей, испокон веку жившие бок о бок на просторах Российской империи, потом Советского Союза, а потом и того государства, что возникло на его обломках.
Сказано коряво (чего только сто́ят три притяжательных местоимения «ее» подряд) и жеманно. Наличие в числе героев русского писателя «людей русской национальности» едва ли нужно специально оговаривать, а вот еврейская тема — это да, личный маркер, хотя тоже совсем не редкий.
Впрочем, главное в писателе — не о чем он пишет, а как. Рецензент честно пытается разобраться:
Прошлое не уходит, оно постоянно с тобой, но сегодня оно ключ к событиям, которые некогда сформировали тебя. Поэтому, обращаясь к прошедшему времени, ты стараешься понять, что же сделало тебя такою, какова ты есть сейчас. Вот эту сращенность, взаимопроникновение и неделимость и старается воспроизвести в своей прозе Рада Полищук, что нередко определяет ритмический рисунок ее повествования.
Увы, для подтверждения этой путанно изложенной мысли Михайлова не находит ничего лучшего, чем попросту пересказывать рассказы Полищук — путь столь же расхожий в рецензиях, сколь и тупиковый.
Елена Макарова. Мишлинг. Звезда, 2020, № 1
Запись жутковатого рассказа Питера Харрингера, «мишлинга», то есть полукровки, рожденного в 1934 году в Бреслау (Вроцлаве) от еврея арийской женщиной, причем вне брака (на самом деле она тоже с еврейскими корнями, но всю жизнь тщательно это скрывала). Мальчик, от которого мать отказалась, жил у разных людей, добрых и недобрых, пока в 1943-м не попал в Терезин (как он предполагает, по доносу собственной биологической матери, вышедшей замуж за пламенного нациста). Воспоминания Питера о концлагере — выразительное описание «первого круга ада»: жестокость, вонь, грязь, прививки от дифтерита одной грязной иглой на всех… После войны рассказчик разыскал мать и — как это ни странно — поддерживал с ней добрые отношения. Монолог «старого мизантропа» (так он определил себя сам) завершается «философически»:
К концу жизни она относилась ко мне хорошо и внуков любила. Вообще, я никого не сужу. Зачем? Справедливости на свете не существует. Посудите сами: женщину в «Макдоналдсе» облили горячим кофе, и за нанесенный ей ущерб она получила миллионную компенсацию. А я провел двадцать семь месяцев в заключении и получил за это три тысячи долларов.
Михаил Ефимов. Моисей Вайнберг и все-все-все. Звезда, 2020, № 2
Ярко, экспрессивно написанный текст про композитора Моисея Вайнберга (1919–1996). Между прочим — такой пассаж:
Вайнберг знал, что его случайно не убили и в любую минуту могут убить именно за то, что он польский еврей. Польский — и еврей. Большего в XX веке, для того чтобы сделать человека трупом, в общем, и не требовалось. Эта рельефность судьбы Вайнберга, ее в то же самое время типичность сделали из Вайнберга почти идеальный манекен: «трагическая судьба еврейского творца в XX веке». <…> И ничего индивидуального, поскольку оно тут же встраивается все в тот же общий риторический гул про трагедию.
Но автор все-таки хочет сказать именно о Вайнберге персонально, о его судьбе и творчестве в их исторической конкретности: ученик Шостаковича, сверстник Уствольской, современник Шнитке и Губайдуллиной… А сам-то он что значит в «памяти культуры» и суждениях экспертов? Вывод оказывается таким:
Вайнберг — это «музыка после Освенцима». Не этически лишь, но — не «вместе с тем», а односущностно — эстетически. Это, конечно, модернизм, и высокой степени возгонки, — и он действительно с человеческим лицом. Это — о необходимости человеческого («человеку нужен человек»).
Александр Мелихов. Из двадцатых в двадцатые. Звезда, 2020, № 5
Очерк о Михаиле Эммануиловиче Козакове (1897–1954) — полузабытом прозаике, отце знаменитого актера. Особое внимание автор обращает на тему антисемитизма в ранних произведениях Козакова. «Как вам, скажем, такой реквием старорежимному российскому захолустью в повести "Полтора Хама"?» — обращается Мелихов к читателю и приводит многочисленные цитаты. Вот так, например, выглядит народная юдофобия послереволюционной эпохи в пересказе одного из козаковских героев:
У меня есть приятель. Он как-то сказал мне: «Я не был юдофобом. Я с оружием в руках защищал еврейскую семью во время погрома. Но теперь… Теперь я купил винчестер, хорошо его смазал, и, когда надо будет, я из него не одного жида ухлопаю…»
Далее перечисляются и другие персонажи повести, вплоть до «несознательного» дворника, «который убивает кошку только за то, что она понимает команды на идише».
В целом Мелихов остается верен себе. В Козакове, который в 1930-е годы «воспел гибель дореволюционной интеллигенции в самых выспренних выражениях», он видит типичного представителя поколения, принявшего «земных владык за посланников вечности», и, переходя на любимую терминологию, завершает очерк традиционным выводом:
И не надо приписывать их крах исключительно страху — они проиграли в состязании грез: у них не было своей сказки, и они потянулись за чужой.
Наталья Рапопорт. То, что нельзя не прочитать. Знамя, 2020, № 2
Автор рецензии на книгу воспоминаний художника Бориса Заборова «То, что нельзя забыть» (СПб.: Вита Нова, 2018) начинает с того, что вспоминает… посещение Дома-музея Шагала в Витебске:
Первое, что я увидела, войдя, была картина на стене, справа от входа. Фамилии художника не было видно, но ошибиться я не могла. «Почему у вас в Музее Шагала висит картина Заборова?» — спросила я. <…> «Дело в том, — объяснила директор музея, — что есть разница между понятиями "музей" и "дом-музей". <…> У нас нет живописи Шагала. А нам хотелось бы… иметь картину большого художника, пусть не из Витебска, но из Белоруссии. Борис Заборов — большой художник, родом из Минска, и тоже живет теперь в Париже. Его отец, художник Абрам Заборов, родился в маленьком местечке Велиже под Витебском, где родился и Марк Шагал. Вот такая получилась удачная перекличка».
Вообще-то, Абрам Заборов родился не в Велиже, а в Лиозно. В Велиже он окончил школу. Шагал — тоже уроженец отнюдь не Велижа и даже, вопреки распространенному заблуждению, не Лиозно, а Витебска. В Лиозно, у деда, великий витеблянин провел детство…
Но это, как говорится, детали. Больше еврейские корни Бориса Заборова и соответствующие мотивы его творчества в рецензии не упоминаются, но контекст все-таки уже задан.
Амаяк Тер-Абрамянц. Уроки оптимизма Семена Виленского. Знамя, 2020, № 2
Воспоминания о Семене Самуиловиче Виленском — поэте и издателе, бывшем узнике сталинских лагерей, организаторе объединения литераторов, прошедших концлагеря, неутомимом человеке, которому «психология покорной жертвы была… чужда». Среди книг, выпущенных Виленским в основанном им издательстве «Возвращение», можно найти немало на еврейскую тему. Достаточно назвать такие значимые, как «Мой отец Соломон Михоэлс» Наталии Вовси-Михоэлс или лагерный дневник прозаика Цви Прейгерзона в переводе с иврита. Тер-Абрамянц называет всего одну, но тоже чрезвычайно важную — сборник материалов о восстании в Собиборе. О собственном происхождении Виленского мемуарист, врач по профессии, упоминает лишь в связи с его шутливой фразой: «…евреи лечатся только у профессоров!»
Мария Бушуева. О власти грезы, главном герое и служении Александра Мелихова. Знамя, 2020, № 2
Небольшая, но емкая статья о творчестве писателя. Суть его миросозерцания критик определяет так:
Самое опасное, считает герой Мелихова, когда в обществе побеждает простота утилитарности и греза начинает служить реальности: высшее — низшему. Протестуя против этого, Мелихов служит своей главной идее: не стремясь к высокому, не возвышая жизнь, человек будет навсегда отрезан от бессмертия. А значит — обречен.
Еврейская тема, столь для Мелихова важная, тоже затрагивается — в связи с романом «В долине блаженных».
Михаил Родионов. Зачем нам Мессия, когда есть Иличевский? Знамя, 2020, № 6
Рецензия на роман Александра Иличевского «Чертеж Ньютона» (М.: АСТ, 2019) начинается так:
Жюри премии Андрея Белого жестоко ошибается который год, выбирая прозаиков то из литературного андеграунда, то по заслугам. Если суть ее в работе на будущее, как приз в вечность, то принцип отбора неправильный. В полярной системе представителей русского литературного истеблишмента ты либо оппозиция, либо номенклатурщик, но все забывают о маргинальной страте. И в писательской тусовке настоящий маргинал только один — Александр Иличевский, который и пишет про маргиналов.
Это знаменитый-то Иличевский, чьи книги регулярно выходят в крупнейшем издательстве страны, — маргинал? Впрочем, дальше упоминаются Прилепин и Пелевин… В сравнении с ними — может, и да. Только вот Прилепин и премия Андрея Белого находятся в разных культурных измерениях.
Дальше рецензент и вовсе дает волю примитивно-обывательским, чтобы не сказать больше, представлениям: на Западе-де «авторам предъявляют обвинения в расизме и сексизме, а прогрессивные активисты(-ки) внушают общественности, что возможна только квир-литература». Бедный Запад!..
Не далеко ушли и представления рецензента об Израиле, где происходит действие романа «Чертеж Ньютона»:
Позиция «мы сами с усами, потому что всегда так было» делает Израиль одной из самых комфортных для жизни стран, но максимально маргинальной с бытийной точки зрения. Западные либеральные тенденции здесь плохо приживаются, а восточное влияние интегрировано, но его держит за горло великодержавный сионизм.
Слово «маргинальный» явно имеет тут особое, не представленное в словарях значение. Маргинал — не аутсайдер, а носитель пограничного статуса и сознания: «Быть маргиналом — это искать. А нашедший всегда спасается». Список же «великих маргиналов» у Родионова такой: Иисус Христос, апостол Петр, Николай Федоров, Константин Циолковский, Исаак Ньютон, Леонардо да Винчи, Пушкин, Варлам Шаламов…
Проза Иличевского, несомненно, заслуживает похвал, но отнюдь не таких странных.
Бригитте Швайгер. Фюрер, прикажи! Иностранная литература, 2020, № 1
Монолог, написанный от лица искренней и убежденной нацистки, при Гитлере — еще юной девушки.
Но человек — больше, чем его взгляды. Судьба героини в своем роде примечательна. Родилась в Австрии, в Граце. В детстве девочку мучает и избивает женщина, которую она называет то матерью, то мачехой (на самом деле — приемная мать, в которой садистская жестокость как-то уживается с искренней заботой о ребенке). Судя по всему, обожание фюрера дает рассказчице то ощущение защищенности, которого ей не хватало в жизни. Выросшая девочка стремится получить справку об арийском происхождении, чтобы стать «начальницей», но обнаруживает, что имеет «примесь еврейской крови второй степени». Дальше — обычные приключения неприкаянной юной девицы: рожает от случайного любовника, потом находит себе преданного жениха, но тот гибнет на Восточном фронте… Позднее она прячется от бомбежек и вошедших в город русских солдат, работает в лазарете…
Преданность идеалам своего отрочества героиня сохраняет и в послевоенные годы:
…я однажды сказала какому-то еврею
кое-что про Гитлера. А он спросил меня: простите, как? Что вы сказали? Вы могли бы это повторить? Тогда я сказала это еще раз! Не моргнув глазом! Потому что я подумала тогда: если клянешься кому-то в верности,
потом нужно оставаться верным ему всю жизнь. И я опять повторила ему, как я отношусь к фюреру. Тогда он сказал, если я еще раз открою рот, он выжжет свастику у меня в горле.
Джакомо Дебенедетти. 16 октября 1943. Очерк. Иностранная литература, 2020, № 5
Написанный в 1944-м, по свежим следам, очерк о том, что последовало за свержением Муссолини и немецкой оккупацией Рима.
Последовательность событий такова: римским евреям было предложено в течение полутора суток «выплатить компенсацию в размере пятидесяти килограммов золота» — под угрозой депортации двухсот человек. Компенсацию собрали, что, естественно, никого не спасло, но некоторое время евреи города «чувствовали себя так, будто их вакцинировали от всякого дальнейшего преследования» и не верили грозным предупреждениям.
Писатель старательно фиксирует — для современников и потомков — подробности облавы и депортации, коснувшейся — пока! — всего тысячи человек. Об их судьбе он тогда еще не знает. Мы сегодня — знаем. Большинство депортированных были уничтожены в Освенциме.
Микша Фене. Страна, которой больше нет. Отрывки из дневника 1944–1945 гг. Иностранная литература, 2020, № 5
Дневники венгерского писателя и политического деятеля, еврея, перешедшего в католицизм. В первой же записи — хроника Холокоста в Венгрии, начиная с выселения евреев в отдельные дома («Гетто устроить не посмели — вдруг английские бомбардировщики станут облетать его стороной…») и заканчивая их депортацией в переполненных вагонах, идущих «предположительно» в Польшу. И как почти везде: «С каким удовольствием, энтузиазмом и, признаемся, талантом способствовала этому значительная часть венгерского среднего класса, почти невозможно себе представить». И никаких иллюзий: «Англичане, да и русские, не смогут прийти достаточно быстро, чтобы своим появлением воспрепятствовать полному уничтожению евреев».
Но когда избавление приходит и Фене, выйдя из укрытия, видит любимый город в руинах, он ужасается вновь…
«Счастливый конец — лишь начало пути…» Стихотворения израильских поэтов. Иностранная литература, 2020, № 5
Стихи четырех поэтов в переводах Александра Бараша: двух покойных классиков, Иегуды Амихая и Дана Пагиса, и двух ныне здравствующих авторов, Ашера Райха и Натана Вассермана. Предисловие переводчика позволяет понять не только исторический и социальный, но — что еще важнее — культурный и метафизический контекст творчества каждого.
Во всех четырех случаях мы имеем дело с переменой, сдвигом, разрывом. У Амихая это — отказ от опоры на важную для предшествующего поколения израильских поэтов русскую традицию ради англо-американской. У Пагиса — переход на выученный в 17-летнем возрасте язык. У Райха, родившегося в ультрарелигиозной семье, — выбор светского образа жизни и светской культуры. Вассерман же, по словам Бараша, «возвращает библейское и вообще еврейское в тот мир, частью которого они были изначально» — мир религиозного сознания Древнего Востока.
А вот как звучит по-русски в версии Бараша современный свободный стих у израильских поэтов (цитата — из Вассермана):
Уже тогда в зелено-синем саду, где сегодня было таким же, как вчера, я знал: с тобой я забуду, что должен приказать траве расти, рыбам — плавать, и забуду, что должен дать имена вещам. Потому что я встретил тебя и стал твоим, как камень, ныряющий в воду, и я ничего не сказал, и так и осталось: свет, которому не хватает света, зелень, синева и скорбь.
Речь идет — разумеется — об Адаме и Еве, но переводчик подчеркивает: миф оказывается несколько иным, «чем в иудеохристианской традиции».
Мария Бушуева. На тяжелых дорогах XX века. Нева, 2020, № 1
Книгу «Мое частное бессмертие» Бориса Клетинича (М.: ArsisBook, 2019) обозреватель «Невы» характеризует так:
Перед нами фактически история одной семьи с еврейскими корнями и рассказ о судьбах ее близких и дальних друзей — удивительное переплетение их радостей и бед, расставаний и встреч на трагически тяжелых дорогах ХХ века.
В действительности роман Клетинича, на который мы уже откликались (в связи с его публикацией в «Волге»), — довольно сложное и своеобразно написанное модернистское произведение, а ни в коем случае не просто семейная хроника, и еврейская линия в нем далеко не единственная. Пытаясь попросту пересказать сюжетную канву, рецензент оказывает автору худую услугу.
Дмитрий Зиновьев. Страх и ужас оккупации. Документы и заявления жителей Павловска и Гатчины. Нева, 2020, № 4
К сожалению, публикатор не сообщает читателям, что значительная часть представленных им материалов — свидетельств, собиравшихся в первые месяцы после освобождения Ленинградской области от оккупации районными комиссиями по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, — уже введена в научный оборот. Например, в книге историка Константина Плоткина «Холокост у стен Ленинграда» (СПб., 2005). Впрочем, повторение не лишне. Память о блокаде не будет полной, если не знать о происходившем в занятых немецкой армией окрестностях города.
Вот лишь одно сообщение (фрагмент из показаний жительницы Павловска):
Не по-человечески зверски немцы обращались с евреями. Долгое время пытали и мучали семью Шварцман (Иосиф Давидович — 1896 г. р., Рахиль Иосифовна — 1898 г. р., Рима Иосифовна — 1925 г. р., Изя Иосифович — 1928 г. р.), ни в чем неповинные советские люди были расстреляны лишь только потому, что они по национальности евреи.
Андрей Новиков. Пряничный губернатор. Роман. Нева, 2020, № 5
Читателям предложена милая и бойкая проза — современная стилизация в духе Салтыкова-Щедрина, но, в отличие от творений классика, довольно беззлобная и беззубая. Губернатор, прозванный в народе Петровичем, совершает один необычный поступок за другим (назначает попугая своим заместителем, пишет «солидную монографию о римских богах… — "Двуликий анус"» и т. д). Между прочим, Петрович решает построить в городе синагогу: «…может быть американцы поправку Джексона-Веника наконец соблаговолят отменить да область прямо в ВТО примут, в обход Российской Федерации». Однако встреча с местным раввином проходит неудачно. Губернатор угощает его некой «еврейской закуской», которая гостю явно не нравится:
Эту закуску в советские времена еврейской и прозвали только потому, что приготовить ее можно было всего за копейки. Сырки плавленые «Дружба» копейки стоили, чеснок — тоже. А терка всегда бесплатной была.
Скажем прямо, не самый смешной эпизод. Другие лучше.
Теодор Гальперин. Траектория судьбы. Рассказ. Нева, 2020, № 5
В любой биографии можно найти нестандартные повороты. Вот что пишет Теодор Гальперин (его рассказ автобиографичен) о своем отце:
Был учеником и сотрудником завкафедрой профессора Никитина. Как только началась война и наши танки оказались малопригодными, Никитину пришло из Москвы предложение направиться на Урал с целью разработки радиоаппаратуры для новых танков. Он отказался — «не могу оставить кафедру в трудное время». И предложил своего талантливого ученика — Бориса Гальперина. И отец направился на Урал. Не могу умолчать: Никитин сознательно остался в Киеве, активно сотрудничал с захватчиками, агитировал за самостийную Украину...
Мать мемуариста вместе с сыном тоже эвакуировалась из Киева — с другим военным заводом, авиационным. Вскоре семья воссоединилась в Новосибирске. Следует описание сравнительно благополучной жизни в эвакуации. Впрочем, не обходится без утрат: дед по отцу расстрелян немцами в Виннице, дядя по матери погиб на фронте.
Привлекает внимание следующий эпизод, несколько книжный — но тем не менее правдоподобный. Пленный немец меняет у мальчика на хлеб… нет, на сей раз не ножик, а кольцо. Бабушка, к которой рассказчик приходит с кольцом, хлеб передает, а кольцо велит вернуть. Затем между мальчиком и немцем происходит такая сцена:
Я помню отчетливо (по смыслу) прозвучавшие почти правильно по-русски, но с акцентом слова: «Если бы мы не убивали евреев, мы победили бы... Ты еврей, мальчик?» Я не знал, что ответить, не знал, что я еврей. Мне никто об этом не говорил — ни во дворе, ни в школе. Мы все говорили по-русски. И я не мог Гансу тогда сказать: «Поэтому мы и победили, мы все были одной национальности — советской!»
Интересно, верит ли Теодор Гальперин в эту мифологию и сегодня, семьдесят пять лет спустя? Или он передает свои тогдашние детские ощущения?
Дмитрий Бирман. Рассказы из детства. Нева, 2020, № 5
Немудреные рассказы о советском детстве. Написано заметно лучше, чем рассказы того же автора, напечатанные в мартовской «Дружбе народов», но это — очень скромная похвала.
Сюжет рассказа «Модная рубашка» таков: у бабушки героя была сестра Дора, в пятнадцать лет сбежавшая в Америку. И вот…
Примерно в одна тысяча девятьсот семидесятом году бабушку пригласили в КГБ, где ласковый дядя вручил ей письмо с красивой маркой на красивом конверте, вежливо поинтересовавшись, что там написано. Дело в том, что тетя Дора писала на идиш. Бабушка, обливаясь слезами (они уже мысленно похоронили Дорочку), прочитала вслух, что Дора Крамер, в девичестве Яхсин, проживающая в Бруклине, разыскивает своих родственников. Судя по тому, как благосклонно дядя кивал головой, бабушка поняла, что в КГБ тоже знают идиш. Вербовать в разведчики ее не стали, учитывая возраст и три класса образования. Дядя посоветовал ответить, рассказать о преимуществах социалистического образа жизни, не углубляясь в подробности.
Напоминает известный анекдот («Дорогой Абрам, наконец-то я нашел время и место…»). Так или иначе, переписка между сестрами завязалась, и Дора стала посылать родственникам вещи. Прислала и эту самую модную нейлоновую рубашку, в честь которой рассказ получил свое название. Надев ее по невежеству в жаркий день, рассказчик заработал тепловой удар…
И, собственно, что? В чем история-то заключается? Другие сюжеты (про патологоанатома дядю Леню или, скажем, вельветовые брюки, привезенные с Кубы) ничуть не более замысловаты.
Ольга Глазунова. Разведчики и предатели: об эссе «Коллекционный экземпляр» Иосифа Бродского. Нева, 2020, № 5
Не только по среднему качеству материала, но и по советско-ностальгической направленности журнал «Нева» все больше напоминает журналы, выходящие в областных центрах на казенный счет. В данном случае автор мягко журит Иосифа Бродского за несправедливость по отношению к советскому шпиону Киму Филби:
Столь явную предвзятость со стороны Бродского можно было бы объяснить тем, что отца Кима Филби обвиняли в антисемитизме. Правда, никаких фактов, подтверждающих это, не было.
В действительности из проарабских настроений Гарри Сент-Джона Бриджера Филби, британского востоковеда, перешедшего в ислам, естественно вытекала и его неприязнь к Израилю, но это явно не являлось главным фактором, повлиявшим на отвращение Бродского к Филби-младшему.
Глазунова старается оставаться вежливой и академичной, еврейской темы напрямую больше нигде не касается, тем не менее ее статью буквально пронизывает мысль об антироссийской сущности Бродского, а заодно и всей третьей волны эмиграции. Правда, имеется стихотворение «На независимость Украины», но даже это не оправдывает поэта…
Олег Рябов. Рассказы. Нева, 2020, № 6
Написано традиционно, без открытий, но достаточно крепко. Первый рассказ («Интересная дамочка») — про флирт взрослой женщины с 13-летним мальчиком во время речного круиза. Второй — про мутные дела 1990-х, связанные с хищением и распродажей архивных документов. Присутствует, между прочим, такой диалог:
— Послушай, Марик, — вдруг встрепенулся Прага, — а сколько у нас в городе евреев? — Двенадцать тысяч. — А в восьмидесятом году сколько было? — Тоже двенадцать было. — И за эти десять лет сколько уехало? — Официально — двенадцать тысяч. <…> — Так же не может быть! — Не знаю — я университетов не кончал. Знаю только, что двенадцать тысяч.
Впрочем, главный герой, обладатель колоритного имени Леонид Ильич Прага, — еврей лишь наполовину, причем по папе.
Рассказы несколько портят неточности в реалиях. Например: не могли еврейского мальчика назвать Адольфом в честь Гитлера, даже если он родился сразу после пакта Молотова-Риббентропа. Просто это было имя, популярное в 1930-е. А уж то, что автор путает Федеральную службу безопасности с Федеральной службой охраны…
Михаил Дегтярь. Хрен должен быть крепким! Жизненные и кулинарные приключения великого Боруха Канцеленбогена (фрагмент книги). Урал, 2020, № 3
Эпос о великом поваре, преподавателе Ялтинского кулинарного училища Борухе Соломоновиче Канцеленбогене. В журнальную публикацию вошли немногие фрагменты, но ясно уже, что судьба героя богата необычными событиями. Ну, например:
Борух прочитал тогда Мэре целую лекцию. Она лежала обнаженная на диване… и Борух старался не смотреть на то, что хорошо было видно и ничем не прикрывалось, — все же Борух был железным человеком, и когда речь шла о кулинарных рецептах, он не отвлекался на всякие глупости, к тому же он хорошо знал, что вечером насладится всеми этими видами без ограничения времени, используя всё доступное ему пространство.
Мэра — это, на минуточку, Норма Мортенсон, более известная под псевдонимом Мэрилин Монро.
Что касается литературного качества, то в этом отношении претензии, кажется, не велики, и результат им соответствует. Книга вполне может иметь коммерческий успех: почитать про секс и кулинарию, да еще с приключениями, приятно почти всем.
Барри Шерр. [Рецензия на книги Марка Уральского «Горький и евреи» и «Бунин и евреи»]. Вопросы литературы, 2020, № 1
Рецензент двух компилятивных сочинений тактично хвалит их автора за то, что тот «не только встраивает материалы из других источников в свою тему, но делает их доступными для самой широкой аудитории», и деликатно обходит вопрос о том, в чем именно новизна и уникальность разбираемых книг. Ибо в действительности неизвестных специалистам материалов в них нет.
Андрей Тесля. Поляки, иезуиты, евреи и «миф о заговоре»: эволюция «опасного другого» в славянофильстве. Новое литературное обозрение, 2020, № 2(162)
Изначально в русском славянофильстве враждебный «другой» — это поляк и католический миссионер, иезуит. Но в 1860-е годы его место постепенно начал занимать еврей. Причем антисемитизм той эпохи, представленный статьями Ивана Аксакова, носил характер рациональный. «Решение еврейского вопроса» для публициста представало следующим образом: поскольку «еврейство» — это конфессиональная принадлежность (Аксаков высмеивал притязания еврейских авторов определять себя как «национальность», «нацию»), то индивидуальное решение — обращение, переход в православие и тем самым включение в русскую политическую общность. С другой стороны, при сохранении собственной веры евреи не могли стать частью «политического тела», а значит должны были оставаться в особом правовом статусе. Наибольшую угрозу Аксаков видел тогда в еврее-атеисте, то есть в том, кто выпал из своего сообщества (понимаемого как религиозное) и в то же время не способен войти в другое, в своих основаниях христианское, оказываясь, таким образом, чистым «нигилистом».
Почему же, однако, постепенно еврей из рационально понимаемого, недружественного, но понятного и в известной степени терпимого «другого» превратился в сознании славянофилов и их последователей в носителя таинственного глобального зла? Как полагает Тесля, это связано с принципиальной нерешаемостью «еврейского вопроса» в рамках националистической концепции, ведь ни территориальное разграничение, ни ассимиляция в данном случае не подходили:
На примере мифа о «еврейском заговоре» можно видеть, что это не иррациональное по природе, не некий сбой в работе разума, а аффективная и обретающая собственную, уже иррациональную логику, ведущую к фобии, реакция на обнаруживаемое неразрешимое противоречие, апорию — между логикой выстраивания национального сообщества и наличием в его рамках неустранимого «другого», при этом ускользающего от однозначной фиксации.
Подготовил Валерий Шубинский |
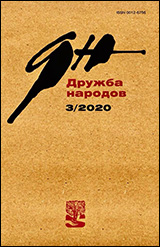     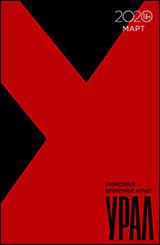   |


