|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 144 / Август 2020 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Ефим Бершин. Мертвое море. Стихи. Дружба народов, 2019, № 11
Стихи звучные и умелые, с истинным лирическим чувством, но многословные и пафосные («любить человека — значит почти убить / человека вместе с его любовью» — такой вот Уайльд для бедных). В каждом стихотворении — библейские мотивы (Содом, Иосиф в Египте, небесный Иерусалим).
Одно стихотворение («Попытка баллады») содержит высказывание, в котором хочется разобраться:
Они живьем зарыли прадеда и кузницу его взорвали. Наверно, это было правильно — иначе бы не зарывали.
Иначе бы Талмуд почитывал и раздувал мехи для горна, скупую денежку подсчитывал и жил себе, не зная горя.
Они — это, видимо, нацисты. «Сыну прадеда», то есть деду, удалось бежать:
За дом, за кузницу, за прадеда он шел на Прагу и на Вену.
Шел, очевидно, в рядах Красной армии. Дальше же — такие слова:
А мне велят сегодня каяться за то, что мы переплатили за кузницу, за то, что, кажется, не так, как надо, победили,
за то, что жили так неправедно, неправильные песни пели. За то, что закопали прадеда, а деда так и не успели.
Кто велит-то? И кто здесь «мы»? В чем пафос? В разоблачении ревизионистского подхода к истории Второй мировой? В защите «Великой Победы» — в том духе, в каком ее понимают нынешние российские власти, или в каком-то другом? Непонятно… Кстати, Талмуд не «почитывают» — это не беллетристика для легкого чтения на досуге.
Керен Климовски. Время говорить. Фрагмент романа. Дружба народов, 2019, № 11
Непритязательная проза на знакомую тему: репатрианты из России в Израиле. Рассказ от лица двенадцатилетней девочки по имени Мишель, дочери филологов-русистов. Девочка растет в соответствующей атмосфере:
…я этих Карамазовых не одолела даже до середины (в двенадцать лет! — В.Ш.): как-то все очень путанно, только начнешь вникать в одну историю, как сразу заходит речь о ком-то другом. В общем, единственное, что я поняла: все русские — сумасшедшие, у них полностью крыша поехала. Но Достоевский хотя бы забавный, а вот Чехов — тоска, читаешь его и как будто медленно погружаешься в болото. Папу очень расстраивают мои отзывы, он говорит: «Это перевод плохой!» — я ведь на иврите читаю…
Дальнейший сюжет традиционен и «интернационален»: первая любовь, переживания из-за развода родителей… Впрочем, перед нами лишь фрагмент романа.
Александр Мелихов. Чем создается ненависть? Звезда, 2019, № 10
Первая часть статьи — рецензия на книгу покойного израильского историка Савелия Дудакова «История одного мифа: очерки русской литературы XIX–XX веков» (Иерусалим, 2019). Главный тезис автора в пересказе рецензента выглядит так:
…именно низкопробная беллетристика, а не имитирующая научность публицистика подготовила приятие «Протоколов сионских мудрецов» наивным массовым сознанием как чего-то респектабельного. Ну как же, в книжках пишут! Правда, и опровергают в книжках, но куда более занудных.
С этим рецензент согласен, однако дальше он вступает с автором книги в спор (орфография сохранена — слово «Холокост» в «Звезде», да и не только там, упорно пишут со строчной):
…Дудаков утверждает, что в истории холокоста «первопреступником» был большевизм: «Истребление еврейского народа началось не в 1933 г., с приходом нацистов к власти, а в 1917 г. — в России». Здесь снова не различаются истребление индивидов, в которых власть видит опасность для себя (и что-то не помню, чтобы большевики свирепствовали больше, чем, скажем, петлюровцы или «добровольцы», не говоря уже о стихийных «батьках»), и истребление народа, который уже приведен к полной покорности, а холокост — это был именно второй случай.
Если Дудаков действительно возлагает ответственность за погромы Гражданской войны только или главным образом на большевиков, то это странно. Но сводить эти погромы к «истреблению индивидов» — еще страннее.
Неожиданно разговор переходит на давнюю книгу Фридриха Горенштейна «Дрезденские страсти» (Нью-Йорк, 1993), потом — на абсолютно вторичную, компилятивную монографию Марка Уральского «Горький и евреи» (СПб., 2018), из которой Мелихов, как можно понять, впервые узнал некоторые довольно знаменитые высказывания Куприна, Леонида Андреева и Флоренского. Дальше речь идет о поездке Горького в Америку в 1905 году с целью сбора средств на русскую революцию. И тут — такой пассаж:
Финансовый провал горьковской миссии наверняка спас немало еврейских жизней, которых, несомненно, потребовало бы «углубление революции», но его ничем не подтвержденные славословия русским евреям, «живительному источнику в освободительной деятельности революционного движения русского народа», пошли во вред и евреям, и движению, которое тем легче было приписать деятельности инородцев…
Достаточно ли погружение Мелихова в материал для столь категоричных суждений? И к чему в итоге он клонит? Зачем дальше приводится цитата из интервью Горького американской еврейской газете, в котором писатель мягко упрекает евреев-большевиков в «бестактности» по отношению к русским религиозным святыням?
В конечном итоге Мелихов выходит на свою любимую тему: «Успехи евреев в экономике, в науке, в культуре и даже в политике вызывают гораздо больше уважения, чем зависти, покуда они не задевают национальных грез».
То есть евреи сами виноваты в антисемитизме? Или нет? Спорный тезис никак не поддерживается текстом статьи. Цель ее написания и авторский «месседж» остаются неясны.
Михаил Кураев. Круговорот, или Adventures of Rappaport. Звезда, 2019, № 11
Воспоминания о советском кинорежиссере Герберте Морицевиче Раппапорте (1908–1983), родившемся, проведшем молодость и сформировавшемся как профессионал в Вене, поработавшем несколько лет в Голливуде, а в 1935 году переехавшем в СССР и поставившем здесь такие фильмы, как «Профессор Мамлок», «Воздушный извозчик», «Два билета на дневной сеанс». Автор мемуарного очерка, являвшийся редактором нескольких картин Раппапорта, приводит колоритные детали:
В его небольшом кабинете стоял платяной шкаф, внизу которого рядом с начищенной обувью на английских пружинных распялках стояла водка, настоянная на чесноке и петрушке, и слегка, самую малость, приправленная сахарком. Словом — пейцеховка. Правильно ли мы величали этот напиток, по преданию, уходящий корнями в еврейскую Пасху, не уверен…
Впрочем, этого потомка львовских маскилов, перебравшихся в столицу Австро-Венгерской империи, с еврейством, кроме «пейцеховки», мало что связывало. Он — «человек, взращенный в историческом лоне Европы, воспитанный в традициях европейской культуры», как-то приспособившийся к жизни в СССР и предпочитавший не распространяться о своих психологических проблемах.
Редакция почему-то сочла необходимым сопроводить очерк двумя примечаниями:
1. Согласно правилам русской орфографии отчество Раппопорта нужно было бы писать «Морисович», как все отчества от имен, оканчивающихся на согласную. Ред. 2. В 1937–1939 вся его семья — мать, отец и сестра — в Вене покончили с собой в условиях германского антисемитизма. Ред.
Первый комментарий — загадочен. Ничего, что «Морицевич» — в паспорте? И что фамилия режиссера — Раппапорт, а не Раппопорт? Второй же — коряв по форме (антисемитизм в Вене — германский даже в 1937-м, еще до аншлюса Австрии), а главное — как минимум неточен по содержанию. Мать Раппапорта умерла в Вене в 1933-м, сестра — в Италии в 1935-м. Источник информации о самоубийстве отца — неизвестен…
Мириам Гамбурд. Либертэ — либертен; Этюд. Звезда, 2019, № 11
Тема первого из двух эссе израильской писательницы и художницы — свобода. Мелькают имена Робеспьера и Наполеона, Гегеля, Фрейда, маркиза де Сада, ожидаемо заходит речь и о еврейской традиции:
В языке иврит изначально заложены эти две категории, и обозначены они двумя разными словами. Хейрут — свобода, та, которую жаждет обрести порабощенный народ, и хофеш — личная свобода. Есть еще и третье слово — дрор, и значит оно волю, в значении — вольная птица. Имея в виду библейский Исход, Лев Толстой назвал сынов Израиля первооткрывателями свободы. <…> Новейшее умозаключение Мераба Мамардашвили «Мы свободны, когда можем выбирать: и чем больше выбора, тем больше свободы» совпадает с великой максимой талмудиста первого века рабби Акивы: «Все предопределено, но свобода (воля) выбора есть».
Идея свободы тесно связана для автора с ощущением собственной телесности и сексуальности. Второе эссе целиком этому и посвящено — и оно интереснее: в нем больше личного опыта и меньше абстрактных рассуждений.
Елена Ржевская. «А что, если так писать…» Из двух тетрадей (1970–1971). Знамя, 2019, № 10
Елена Ржевская — советский писатель-документалист, талантливый и умелый, но довольно обычный. В черновых записях, предназначенных «для себя», она удивительным образом оказывается смелой модернисткой. Вот такой:
А цыганки на московских улицах, в метро, со своими юбками, метущими асфальт, колыхающимися, со своей непреклонной дикостью, своеобразием — волнуют меня. Не хватает жизни и нет подступов, чтобы узнать их, о них. Какое это чудо, какая краска в нивелируемом бытии человеческом, к которому подкрадываются еще и со взломом: будут делать таких или этаких Наполеонов, Ньютонов, Эйнштейнов. Этих не сделают. Эти уже и сейчас — раритеты своеволия, стойкости устоев. Их уже уничтожал Гитлер. Слава богу, что еще есть легкомыслие, еще не верится, что нас будут выводить проворной селекцией, случками достойных с достойными. Эту модель мы уже знали. Да пребудут цыгане.
Это — не то Виктор Соснора, не то Павел Улитин. Притом написано умно и зло, без наивности.
В записях 1970–1971 годов фигурируют Давид Самойлов, Твардовский, Солженицын. Есть и менее ожидаемое:
Пеллер, Пеллер. Все об нем не успокоиться. Учился на раввина, одесский еврей, потом поехал в Биробиджан. В 1937 он сидел, руки ему переломали. Выпустили в сороковом. Он — на фронт. Кавалер трех орденов Славы! Еврей. Это же надо понимать, что ему надо было проявить, чтобы получить три ордена Славы. Он председатель колхоза в Биробиджане… <…> Говорит он все так же с местечковым, с одесским выговором. Ну и Пеллер! Они с Генрихом Гофманом из Брюсселя только вернулись, боролись с сионистами. — Вам это сейчас прицепили? — спросил там кто-то Гофмана (звездочка героя). «Товарищ фашист, я же говорил»… — сказал Гофман. Во сказал: «Товарищ фашист». <…> А Пеллер, он же кавалер трех орденов Славы, он на Гофмана снизу вверх смотрит — герой Сов. Союза. Для него он, как подобает, — герой.
Владимир Израйлевич Пеллер, депутат Верховного Совета, делегат XXIV съезда КПСС и прочее, тоже имел золотую звезду, но другую — Героя Социалистического Труда. Генрих Борисович Гофман — прославленный военный летчик и писатель. Оба храбрых фронтовика послушно съездили в Брюссель «бороться с сионистами», это даже не предмет для рефлексии. А Ржевская? В заметках «для себя» она тщательно фиксирует предполагаемую (по виду) национальность встречных, но делает это отстраненно — ее самоидентификация сложна. Характерная запись — после возложения цветов в Бабьем Яру:
Группа пожилых и старых евреев у камня. Чужие, чужеродные. Черствые лица, как это проявляется с возрастом нередко у женщин. Никакого ощущения своей связи с этими людьми, средой, натурой. Скорее и даже определенно — отталкивание. И среди них и только них жить — нет, не согласишься.
Евгений Ямбург. Русская литература на обломках империи. Знамя, 2019, № 12
Автор — не литературовед и не критик, а известный педагог. Статья его, увы, в литературоведческом смысле более чем наивна. Преамбула такова:
1941 год, фашисты рвутся к Ленинграду, захватывают Гатчину. Там располагается психиатрическая лечебница, где проживали люди с серьезными ментальными заболеваниями. Главным врачом тогда работала женщина-еврейка. Нацистам это было известно, и они потребовали ее выдачи. Так вот, психически больные люди месяц прятали и подкармливали ее. После того как нацисты пригрозили расстрелом пациентов, она добровольно вышла из укрытия. Разумеется, уничтожили всех… <…> Зачем я привел этот поразительный факт? Он позволяет понять, почему из целого ряда достойных произведений, написанных в последнее время по-русски в России и республиках СНГ, я избрал три романа…
Во всех трех отобранных романах, которые Ямбург старательно пересказывает, действуют люди, как сейчас принято говорить, «с особенностями». Одни поступают хорошо, другие хуже. Вывод же такой:
Писатели-диагносты обнаружили явное нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, следствием которого является искажение и потеря исторической памяти. <…> Но надежда умирает последней. В чем же она? В просвещении вступающих в жизнь новых поколений.
Создается впечатление, что статья напечатана только из уважения к внелитературным заслугам автора.
Александр Ласкин. Белые вороны, черные овцы. Повесть-воспоминание. Нева, 2019, № 10
Повесть-эссе о скульпторе Эдуарде Берсудском — с многочисленными отступлениями и «интермедиями». Еврейская тема (которой автор искренне интересуется, но материалом по которой, увы, недостаточно владеет) среди прочего тоже не раз появляется на периферии. Вот, например, описывается «кинематическая» композиция Берсудского на евангельский сюжет:
Тот, кто вскоре станет Богом, — маленький, хрупкий, в прямом смысле — дробящийся, — подвешен среди нитей и железных колес. Движутся не только руки и ноги, но плечи и локти. Он то ли извивается в смертной муке, то ли танцует. На голове у него кипа. Перед нами не только создатель религии, но наследник более древней веры — так же как его сородичи соединяют молитву и танец, так он движением преодолевает боль.
Отступления, как правило, не имеют никакого отношения к основному герою, но позволяют автору поделиться с читателем всем, чем хочется поделиться. Прежде всего — успехом собственной книги, посвященной русскому революционеру Николаю Блинову, который в 1905 году во время житомирского погрома присоединился к еврейской самообороне и был растерзан толпой. Видимо, книга и в самом деле имела резонанс. Ласкин рассказывает об открытии памятника Блинову на кампусе Ариэльского университета в Израиле и мемориальной доски в Житомире.
Саша Немировский. Стихи. Нева, 2019, № 12
Автор, как сообщает журнал, — «поэт, писатель, хай-тек-антрепренер, гражданин мира». Стихи — банальные по мысли и образам, претенциозно-дилетантские по технике. Впрочем, уровень поэзии в «Неве» уже традиционно низок. В стихотворении про Вену разговор, начавшись с Брейгеля, переходит на Холокост:
Кариатиде мокрое лицо поможет вряд ли, где каменных орлов отбеленный жетон все стережет еврейского квартала воздух от побега. Барух ата... Прижата глыбой память холокоста на Юденплац. Давно ли Питер рисовал те кости? Почти полтысячи годов тому назад.
Миленко Ергович. Вилимовски. Роман. Иностранная литература, 2019, № 10
Странная и очень хорошо написанная книга, вызывающая в памяти Йозефа Рота. Балканский колорит накладывается на (остаточный) австро-венгерский. В начале — такая картина: больного мальчика на носилках, прикрытого от мух простыней, крестьяне в хорватской глуши принимают за Карагёза, комического персонажа турецкого театра теней.
Мальчик Давид, его отец, польский врач Томаш Машевский, его покойная жена Эстер (еврейка из Галиции), девушка Ружа, ухаживающая за Давидом, немка Катарина и ее муж Илия — со всеми ними на страницах книги ничего особенного не происходит. Тонкие повороты человеческих отношений, болезни (у Давида — костный туберкулез, его мать умерла от энцефалита)… Еще — радио, транслирующее репортаж о футбольном матче между Польшей и Бразилией, и знаменитый гол Эрнеста Вилимовски, выступавшего за польскую сборную. Всё это — на фоне тревожных политических новостей… и наших знаний о ближайшем будущем, ждущем героев. Впрочем, Давиду и его отцу «повезет»: они умрут естественной смертью. А футболист Вилимовски, этнический немец, после оккупации станет играть за Германию и будет заклеймен как коллаборационист.
Винфрид Георг Зебальд. Макс Фербер. Рассказ. Иностранная литература, 2019, № 11
Сложный, многослойный текст. Немецкий прозаик описывает свое общение с английским художником — евреем из Германии, сумевшем в 1939 году, пятнадцати лет от роду, перебраться в Англию. Фербер рассказывает про своих родителей, которые остались в Германии и погибли в концлагере. Отец — коллекционер. Патрицианская семья, живущая в мире «высокой европейской культуры». О приходе нацистов герой вспоминает:
Мы все судорожно старались сохранять видимость нормальной жизни. Старались даже после того, как отец должен был передать руководство только год назад открытой им галереи, расположенной по диагонали от Дома искусств, какому-то арийскому партнеру. Я и дальше делал уроки под наблюдением моей мамы, зимой мы по-прежнему ездили на Шлирзее кататься на лыжах, а летние каникулы проводили в Оберстдорфе или долине Вальсер; и о том, о чем нельзя было говорить, мы молчали.
Но утонченному юному европейцу почему-то снится некий «Фройман из Дрогобыча», сделавший модель храма Соломона, — и по этой модели Макс (во сне) понимает, «как выглядит истинное произведение искусства».
Второй уровень — записки матери Фербера, выросшей в куда более традиционном мире, где ритм жизни определялся еврейскими праздниками. И, наконец, третий уровень — собственные впечатления и рассуждения автора. Например, о посещении еврейского кладбища:
Я не мог расшифровать все выгравированные надписи, но те фамилии, что еще поддавались прочтению — Гамбургер, Киссингер, Вертхаймер, Фридлендер, Грунвальд, Лойтхольб, Зеелигман, Хертц, Гольдштауб, Баумблатт и Блументаль, — навели меня на мысль о том, что немцы ничему, пожалуй, так не завидовали, как прекрасным, связанным с землей и языком, в котором они жили, еврейским именам.
Еврейские фамилии всегда казались немцам (как и русским) забавными, но историческая рефлексия и чувство вины меняют оптику…
Ян Котт. Кадиш. Страницы о Тадеуше Канторе. Иностранная литература, 2019, № 12
Очерк о польском театральном режиссере-авангардисте начинается так:
Он говорил по-французски с сильным гортанным акцентом. Ко мне он обратился сначала на иврите, потом на идише. Переспросил еще раз: «Ты еврей?» Прошел со мной немного дальше, до маленького частного молельного дома. <…> В каком еще городе чужой человек спросит меня, прочел ли я кадиш — поминальную молитву за моего отца?
Но в описанных Коттом спектаклях Кантора хасиды со свитками Торы соседствуют с польскими офицерами, ксендзами, украинскими крестьянами. В спектаклях нашла отражение общая польская и — шире — восточноевропейская память, в которой переплетаются разные образы и традиции.
Сергей Сиротин. Послеродовая депрессия. Урал, 2019, № 11
Отзыв на роман Давида Гроссмана «Как-то лошадь входит в бар», опубликованный по-русски издательством «Эксмо» (2019). Рецензент явно не в курсе израильских реалий: так, он впервые услышал выражение «кибенимат», и ему потребовался комментарий, чтобы догадаться о происхождении нехитрого термина.
Герой романа Гроссмана — комик по имени Довале.
…Довале, рассказав анекдот, начинает общаться с пришедшими в зал. Вскоре выясняется, что шуточки звучат не самые смешные, а сам комик довольно циничен и откровенно унижает зрителей. <…> Постепенно он отходит от анекдотов и задирания публики и переходит к рассказу об эпизодах своей подростковой жизни.
К сожалению, критик идет по распространенному и едва ли перспективному пути — старательно пересказывает книгу. Итог же, скажем так, простодушен:
Конечно, «Как-то лошадь…» не встанет в один ряд с карамельными образчиками позитивной американской психологии, но вдумчивому читателю, не верящему в бесконечный оптимизм, возможно, будет интересна история комика Довале, во всеуслышание признающего, что его душа — это «мешок дерьма».
Все-таки о художественной литературе лучше говорить именно как о литературе. Оптимизм или пессимизм писателя — его частное дело, а уж героя — тем паче.
Даниэль Леви, Натан Шнайдер. Права человека и конфликты памяти: политика прощения. Неприкосновенный запас, 2019, № 5(127)
Статья израильских ученых посвящена болезненной для современной западной цивилизации теме:
Прощение служит подразумеваемым, а зачастую и явным фоном для разрешения вопросов реституции, политики памяти и прочих реакций на публичное обличение исторических несправедливостей. Это ставит перед нами весьма сложные вопросы. Обязаны ли мы предпочитать память забвению, наказание амнистии, обиду прощению? <…> После Холокоста эти и подобные темы породили обширную литературу.
Проблема иллюстрируется, в частности, давней полемикой вокруг согласия Израиля на получение реституций из Германии. Это решение раскололо израильское общество, так как воспринималось многими как готовность «продать прощение» потомкам убийц.
Читая статью, невольно осознаешь, что ко Второй мировой войне и ее кровавому наследию проблема особого отношения уже не имеет. Едва ли кому придет в голову предъявлять нынешним немцам счет за Холокост или блокаду Ленинграда. А вот к конфликтам и преступлениям более поздним рассуждения авторов вполне приложимы.
Память о блокаде — блокада памяти. Неприкосновенный запас, 2019, № 5(127)
На страницах журнала в дискуссии о ленинградской блокаде невольно речь заходит и о Холокосте, ибо последний, по словам Екатерины Махотиной, историка из Университета города Бонна, «стал универсальным шифром и моральным фундаментом для памяти о других катастрофах». Однако здесь заложено противоречие: с одной стороны, именно память о Холокосте привела к тому, что «человеческое достоинство и право на жизнь стали главными универсальными ценностями». Но есть и оборотная сторона медали: «Кодируя свои травматические переживания в образы и символы Холокоста, различные группы жертв пытаются добиться признания и солидарности, создавая при этом эксклюзивный, моновиктимный дискурс». Проще говоря, статус жертвы, описанный языком Холокоста, дает некие моральные выгоды, и за этот статус ведется борьба. Положим, у армян, ромов (цыган), украинцев или афроамериканцев, а также сексуальных меньшинств есть все основания говорить о своих травмах. Однако как при этом избежать бесплодного «соревнования по страданиям»?
Подхватывая такой поворот темы, историк Михаил Габович из Эйнштейновского форума в Потсдаме приводит мнение философа Цветана Тодорова: «…немцы должны говорить об уникальности Холокоста, а евреи — о его универсальности». Габович считает, что аналогичное правило «применимо и к памяти о блокаде», а потому обращать внимание на ее особую чудовищность и уникальность нужно в Германии, но не в России. Тем не менее даже этот участник дискуссии оговаривается: «Можно понять евреев, черпающих свою идентичность из памяти о Холокосте, или армян, для которых нет ничего важнее памяти о геноциде 1915 года и его международного признания наравне с Холокостом…»
Подготовил Валерий Шубинский
|
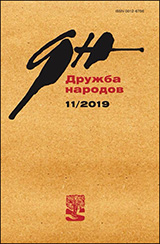    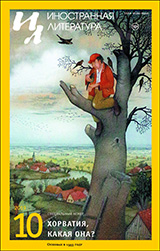   |


