|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 143 / Декабрь 2019 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Михаил Лидогостер. Одежда для пустоты. Рассказ. Дружба народов, 2019, № 9
Согласно аннотации, автор несколько лет провел в Израиле, успел послужить там в армии. Рассказ — из израильской жизни.
Когда он подошел достаточно близко, Орен смог уловить легкий американский акцент. — Ты возлагал сегодня тфилин? — спросил раввин. — Нет, — признался Орен. — Тогда у тебя есть возможность сделать это прямо сейчас. — Как-нибудь в другой раз. — Это важнейшая заповедь Торы. — Да, но я не готов. Раввин поправил шляпу и почесал затылок. — Ладно, — он достал визитку и протянул ее Орену. — Вот мой номер. Позвони, если вдруг захочешь поговорить.
Как и велят законы жанра, в финале рассказа герой захотел-таки поговорить с раввином. В промежутке он навещает своего армейского друга Дуди, после ранения впавшего в амнезию. Ближе к финалу Дуди бросается под машину (его амнезия оказывается притворной — из-за оплошности Дуди погибли товарищи, и он не может себе этого простить).
Написано добротно, «изнутри», а что несколько стереотипно, так не всем же быть новаторами.
Марк Зайчик. Пейзажи и персонажи. Звезда, 2019, № 9
Персонажи повести — пьющий и не без психических отклонений университетский преподаватель математики Абрам Исаевич Кислинский, его жена Бася, его студент Жора, его (Жоры) девушка Лиля. Кислинский, что характерно, «был поклонником Набокова и Шаламова, Платонова и Джойса, Стерна и Гомера». Демонстрация к месту и не к месту богатого культурного багажа героев — фирменный знак Марка Зайчика. Другой фирменный знак — интерес героя к боксу. Третий — рыхлый сюжет.
Действие происходит (точнее, практически не происходит) в Израиле на излете 1970-х:
«А вообще, конечно, погуляла нация прилично за эти годы, за пять наших кровных лет, — вещал Кислинский, его уже было не остановить. — Вот и договорчик наш дядя Меня подписал с соседями, полуостров профукал и канал. Но и это не всё. Не бывает так, чтоб сразу и всё. Не-ет, он ребят из Потьмы освободил, это да, ты помнишь, Жора? Потом песенка победила недавно в столице, как там поется, Жорик? Помогай. "Аллилуйя", говоришь, пусть будет "Аллилуйя", мне по фигу, лишь бы побеждали. Я за победы. Давай, Жорик, споем. Потом выборы выиграли, прорвались из оппозиции, что замечательно. Зэки и джентльмены из Бреста взяли власть надолго и красиво, что радует. Без пленных. И главное, а это самое главное, конюшню нашу московскую надрали как бобиков… Вот это главное».
В примечании аккуратно перечисляется, что конкретно имеется в виду: подписание Менахемом Бегином мирного договора с Египтом, операция в аэропорту «Энтеббе», который, по авторитетному мнению редакции «Звезды», находится в Анголе, победа баскетбольного «Маккаби» над ЦСКА и т. д. Увы, плоть эпохи передать не удается. В итоге — неясно, в чем же «цимес» произведения.
Виктор Шендерович. Четвертый «изюм». Знамя, 2019, № 7
Анекдотцы от известного сатирика — про политиков, актеров, литераторов и частных лиц. Например:
Ирина Селезнёва играла моноспектакль на иврите — отрывки из русской классики. Ездила с ним по всему Израилю. И однажды монтировщик Шмулик, марокканский еврей, признался ей: — Больше всего в твоем спектакле мне нравится монолог Нины Заречной. Взволнованная такой чуткостью трудового израильского народа, актриса спросила, чем именно Шмулику близок именно Чехов. И честный Шмулик ответил: — Это последний отрывок. И можно ехать домой.
Ну и про двух своих дедушек — Семена Марковича, который всегда приезжал на вокзал за несколько часов до отхода поезда, и Евсея Самуиловича, который такой привычки, видимо, не имел.
Насколько всё это интересно — другой разговор…
Ольга Розенблюм, Мария Тендрякова. «Наше поколение богато примерами солдатского мужества и почти совсем не знало гражданского…». Владимир Тендряков об Эммануиле Казакевиче. Знамя, 2019, № 7
В центре блока мемуарных и документальных материалов — борьба за придание советской литературе мало-мальски человеческого лица в первые годы оттепели. Казакевич здесь — давно уже не еврейский поэт, а видный русский прозаик, автор «Звезды» и других книг о войне. Однако о его происхождении помнят — хотя на дворе уже не 1952-й, а «счастливые» 1956–1957 годы.
Вот, например, такой документ — письмо в редакцию «Литературки»:
Критикуя альманах «Литературная Москва», редакция «Литературной газеты» по непонятным нам соображениям упоминает фамилии лишь четырех членов редколлегии альманаха, а именно: тт. Э.Казакевича, М.Алигер, В.Каверина и В.Рудного. Мы, нижеподписавшиеся, тоже являемся членами редколлегии альманаха «Литературная Москва», как это указано на заглавном листе первого и второго сборников, и полностью несем ответственность за их содержание. Члены редколлегии альманаха «Литературная Москва» Бек, Паустовский, Тендряков
В первом списке (из четырех фамилий) все — евреи. Во втором — еврея ни одного. Случайность? Имела ли критика «Литературной Москвы» антисемитский оттенок? Увы, составителями подборки это не прояснено.
Раиса Орлова. «До нового ХХ съезда мы не доживем». Из дневников 1969–1980 годов. Знамя, 2019, № 7–8
Дневники советского человека, но не простого, а особого рода и статуса — «внутрисистемного диссидента», видящего, как гибнет идея «социализма с человеческим лицом»:
Холодный ужас теперь приходит не с мыслями про тюрьмы и обыски, а с мыслями о Палиевском и Кожинове. Руситы — реальная современная идеология. И дело зашло очень, очень далеко… Всё наше — обломки давно потонувших и никому не нужных атлантид. Рядом то ли русские, то ли еврейские, то ли армянские националисты. Растущее одиночество.
Страх перед будущим сменяется смутными надеждами, надежды — страхом. Страх почти всегда связан с еврейством. Орлова воображает себя в «предбанниках Освенцима» и в колонне, идущей в Бабий Яр. Даже глядя на гуляния в ленинградские белые ночи, Орлова беспокоится:
Что это за толпа, страха она не внушает. Вроде не злая. Какие лозунги могут их пробудить? «Россия для русских»? Или «Бей жидов!», «Долой иностранцев!», «Долой бюрократов!» или «Да здравствует свободная любовь!»?
Но кроме страха перед антисемитизмом — ничего еврейского. «Еврейский национализм» вызывает такую же брезгливость, как Кожинов с Палиевским.
Эстетически перед нами тоже вполне советский человек. Почитала Набокова, но — «буду упрямо любить своего Некрасова и своего Твардовского, вне зависимости от того, совпадает ли это со вкусами молодых или нет».
Собеседники Орловой и ее мужа, литературоведа-германиста Льва Копелева, на Западе — исключительно представители «прогрессивных сил» от Генриха Бёлля до Лилиан Хеллман. Последняя советует Копелевым эмигрировать в таких выражениях:
У меня был небольшой и гораздо менее мучительный опыт такого рода во времена Маккарти, хотя я, конечно, не оставляла своих детей и внуков. Но приходит время, когда надо поступаться чем-то ради чего-то другого, а я считаю, что Льва надо спасать.
Картина мира, в которой советские репрессии (пусть даже брежневской эпохи) симметричны маккартизму, сейчас не очень популярна, да и объективно сомнительна — но для Орловой и Копелева она более чем естественна. Они — люди своего времени.
Лев Симкин. Девушка с книгой. Знамя, 2019, № 8
Начало интригующее… и невеселое:
Верны поверья: перед экзаменом потереть нос бронзового пса у «Пограничника с собакой», перед защитой диссертации потрогать шестеренку у «Инженера», ну а девушке, не желающей остаться старой девой, следует коснуться бронзовой туфельки «Студентки с книгой», это уж наверняка. Правда, семнадцатилетняя Нина, позировавшая Матвею Манизеру, так и не вышла замуж, и детей у нее не было.
Нина Израилевна Каданер — не только модель для одной из статуй, украшающих метро «Площадь Революции» в Москве, но и дочь видного инженера-метростроителя, расстрелянного в 1938-м. Девушку, впрочем, не тронули: она выучилась и стала редактором в журнале «Знамя», причем устроилась туда «после того, как в 1948 году "за недостаточное разоблачение космополитизма" большинство сотрудников редакции было отстранено от работы». Решили, что испуганная на всю жизнь, «алармистка», Нина Израилевна не подведет и будет исполнять все указания партии. Она и не подводила — боялась даже тени крамольных разговоров:
…в разгар «дела врачей», она зашла по работе к немолодой писательнице Марии Марич, автору популярнейшего в советское время романа о декабристах «Северное сияние». На столе у той лежала «Правда» со статьей, славящей Лидию Тимашук: «сорвала маску с американских наймитов, использовавших белый халат для умерщвления советских людей». «Нина, я не доживу, но вы обязательно доживете до того дня, когда скажут, что это грязная ложь!» Рассказывая об этом племяннику, Нина Израилевна призналась, что не только произносить, но и слушать такое было непереносимо страшно, и, сославшись на какую-то несуществующую причину, она спешно покинула квартиру Марич.
Редакция «Знамени», кстати, по составу работников была, как отмечает Симкин, сплошь «еврейской». Правда, одно время там работал не кто иной, как один из вождей националистической «русской партии» в позднесоветской литературе Станислав Куняев — за что другой, еще более несгибаемый патриот, Владимир Бушин, строго его осуждал.
Такие вот исторические парадоксы — в контексте заурядной, в общем-то, индивидуальной судьбы.
Владимир Кантор. Не пускайте зло в свой дом. Новелла. Нева, 2019, № 8
Семейная хроника — интересная, живо написанная. Москва 1941 года, война, мужчины на фронте. Затем — послевоенная интеллигентская жизнь. Часть персонажей — евреи. В общем-то, больших неудобств это им не доставляет.
Папа окончил университет, вел семинары по истории партии в Рыбном институте, читал лекции по эстетике в Институте кинематографии. И вдруг его пригласили на работу в журнале по искусству на должность «умного еврея», то есть заместителя главного редактора, появились деньги, небольшие, но все же.
Герой-рассказчик женится на «хорошей еврейской девушке» — и вообще у этой семейной линии все складывается благополучно и респектабельно. Отцовское еврейство и «правильность» матери защищают сына от грубости простонародной советской жизни. А вот у сыновей тети Лены, маминой сестры, все складывается скверно: одного убивают, другой сам кончает с собой. «Какой страшный конец семьи! Страшнее, чем у Будденброков! Будто и не было семьи», — говорит папа Карл, «умный еврей». Мама же читает сыну пространную нотацию о правильном выборе жены — сочувственным воспроизведением этой нотации «новелла» заканчивается.
Если авторский посыл в этом и заключался — жаль. Материал стоил большего.
Александр Мелихов. Тризна. Повесть. Нева, 2019, № 9
Хоронят гениального ученого-энциклопедиста. При этом — антисемита, который, однако, защищал от государственного антисемитизма своих учеников и их близких:
Почетный караул у гроба Екатерина Андреевна подобрала с поистине византийским искусством: в головах Олег и Филя — самый культурный и самый простецкий из обломовских учеников (демократизм), в поясе Бахыт и Мохов (интернационализм) и в ногах два еврея, Кацо и Грузо, Кац и Боярский, выписанные из Израиля и Америки. Они оба получили от матушки умоляющие электронные письма о том, что Владимир Игнатьевич умирает и хочет перед смертью сообщить им что-то очень важное. Мужики срочно бросились в аэропорт — уж не покаяться ли перед ними желает тот, кого называли главным антисемитом Ленинграда, и узнали, что письма она отправила уже после его смерти. Зачем она это сделала, заморские гости спросить не решились, но ясно, что иначе бы они, скорее всего, не приехали. А вот зачем они ей понадобились, Олег догадывался: в членкоры в свое время Обломов проскочил как по маслу, а вот в академики его несколько раз катанули (еврейская партия, уж кого они там имели в виду), так нужно для очищения его посмертного образа поставить в первый ряд именно евреев…
Над гробом учителя все ученики, в том числе и евреи, рассказывают о своей жизни, заодно обсуждая текущие политические события (Донбасс, Трамп и пр.). Это дает писателю Мелихову очередной повод высказать свои любимые историсофские идеи.
Андрей Краснящих. Писатели в Харькове. Слуцкий. Новый мир, 2019, № 7–8
Как замечает автор, в украинской Википедии Борис Абрамович Слуцкий назван «украинским и русским поэтом». Можно ли в таком случае считать украинскими писателями (только по месту жительства или рождения) Ахматову, Булгакова или, скажем, Арсения Тарковского? Впрочем, на современной Украине Слуцкого, если верить статье, помнят мало — он почти не жил там в свои зрелые годы, да и в современные идейно-политические расклады вписывается с трудом.
Однако тема Харькова и вообще Восточной Украины в поэзии Слуцкого присутствует — Краснящих дает подробный и достойный обзор этих мотивов. Еще интереснее очерк семейной истории Слуцких, но здесь явно не хватает архивных изысканий. Думается, что исследователь совершенно напрасно рассматривает стихи как документальный источник, и, например, из строк в стихотворении «Отец» («Изгнанный из второго класса / церковноприходского училища / за то, что дерзил священнику») делает вывод, что Абрам Хаимович Слуцкий был выкрестом. Если бы комиссионер Хаим Слуцкий для чего-то захотел крестить одного сына (в то время как другого, Шимона, отца израильского генерала Меира Амира, — нет), то уж точно не для того, чтобы определить его в церковноприходскую школу. Да и женился Абрам Слуцкий на еврейке…
Александр Мелихов. Соединенные штаты мечты. Повесть. Новый мир, 2019, № 8
Повесть с теми же героями, что и «Тризна», но действие происходит намного раньше. Еврейская тема, точнее, тема антисемитизма великого ученого Обломова — на дальней периферии текста.
Даниэль Клугер. Убийство в (анти)утопии. Новый мир, 2019, № 9
Среди прочего в статье рассматриваются романы Филиппа Керра о сыщике Берни Гюнтере, которые, строго говоря, нельзя назвать антиутопиями: скорее это исторические детективы (подобные тем, что по-русски пишут Акунин или Юзефович). Действие двух из них происходит в Третьем рейхе, однако фантастически преображенном: «по улицам разгуливают оборотни и вампиры». Реальные ужасы нацизма тоже подвергаются публицистической трансформации: «родственники исчезнувших вдруг получают… картонную коробку с пеплом из Дахау».
Другая часть статьи посвящена действительно антиутопиям, в которых описывается мир после победы Третьего рейха. Например, в романе Роберта Харриса «Фатерланд» сотрудник берлинской криминальной полиции Ксавьер Марш расследует убийство четырнадцати высокопоставленных эсэсовцев и в силу профессиональной добросовестности против собственной воли выходит на другое преступление, «на страшную тайну исчезнувших евреев Европы — тайну убийства, отличающегося от обычных, „камерных“ убийств фантастичностью масштаба, но не сутью случившегося».
К слову говоря, примеры обращения к такого рода антиутопическим конструкциям есть и в русской литературе. См., например, рассказ Олега Юрьева «Игра в скорлупку» (1996).
Ольга Мартынова. Иерусалим, или Where Are You From. Новое литературное обозрение, 2019, № 4(158)
Эссе двуязычной (русской и немецкой) писательницы, живущей во Франкфурте, о проблеме самоидентификации и исторической ответственности:
Куда бы вы ни приехали, вас, как только вы покинете вокзал или аэропорт, кто-нибудь непременно спросит: «Where are you from?» Это может быть таксист, официант, продавец каштанов, кто угодно. Я всегда отвечаю: «I am from Russia». <…> Но, когда я в прошлый раз была в Иерусалиме, я заметила за собой некоторую странность. По дороге из аэропорта Бен-Гуриона в Иерусалим на вопрос «Where are you from?» я ответила: «I am from Germany». <…> Я думаю, это не было связано с тем, что я давно живу в Германии, скорее с тем, что я почувствовала какую-то внутреннюю ответственность, которую я на себя взяла в тот момент, когда выбрала немецкий языком моих книг. Я не могу сказать: «А вот это не имеет ко мне отношения». Точно так же, как я не могу сказать про что бы то ни было связанное с Россией: «А вот это не имеет ко мне отношения».
По мнению Мартыновой, и громогласные публичные покаяния, и дистанцирование по отношению к тому, к чему ты (по факту рождения, культурной принадлежности или выбора) имеешь отношение, — всего лишь попытка избавиться от бремени прошлого. Того прошлого, от которого избавиться нельзя никогда. Это относится, в частности, к Холокосту — но не только к нему:
Наша катастрофа 1917 года не может исчезнуть, гумилевский трамвай так и блуждает во времени и пространстве. Немецкая (про которую я, столько лет живя в Германии, тоже говорю «наша») катастрофа 1933 года не может исчезнуть. Что тут можно считать осознанным и преодоленным, что делать с этими убитыми миллионами? …В Лиссабоне стоит памятник, напоминающий об изгнании полтысячелетия назад португальских евреев. Это означает то же самое: такие вещи никуда не деваются.
Подготовил Валерий Шубинский
|
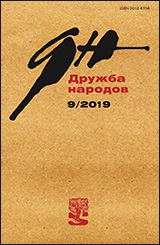      |


