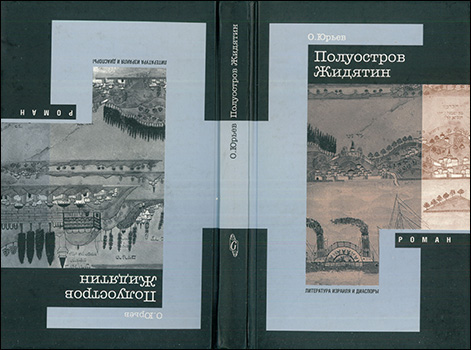|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 140 / Июнь 2019 Точка зрения
Погранзапретзона еврейской идентичности в романе Олега Юрьева «Полуостров Жидятин» |
|
||||||||
|
Что ж гоноришься ты, племя подлячье, Мухры громоздишь на хухры?! Ой, не ходите евреи в Подляшье, Ох, не спускайтесь в хохлы.
Солью, и салом, и кровью горилой Пахнут усы холуя. Мусорный ветер висит над могилой, Эта могила — моя. Олег Юрьев
Во-первых, романа, по сути, два. Два героя-рассказчика, обитающие на двух разных этажах одного и того же пакгауза в вымышленной погранзапретзоне «Полуостров Жидятин» на финской границе, уравнены в правах редким способом издания — перевертышем. Во‑вторых, сам автор под вымышленным именем Яков Гольдштейн анализирует оба этих романа в приложениях к ним. Этот постмодернистский (ярлык, который совсем Юрьеву не идет) игровой жест можно трактовать как приглашение к разговору, а можно — как предостережение. Автор будто бы приоткрывает свой творческий метод — и тем обескураживает. Читательские догадки, которые подтверждаются в приложениях, скомпрометированы. Не будет же литературный текст в лоб проговаривать свои идеи и прилюдно себя расколдовывать? Тем более он маркирован заблуждениями: «Принимая за исходное автобиографическую подоплеку присланной Вами рукописи… автору должно быть сейчас около 25 лет, и "Жидятин", без сомнения, его первый литературный опыт». Художественную задачу, которую решают приложения, — по крайней мере, одну из задач — определить нетрудно. Трактовки в двух письмах «профессора Лапландского университета г. Рованиеми (Финляндия) Якова Николаевича Гольдштейна» не обобщают, а разводят две половины книги, две половины пакгауза, до самого конца их распараллеливают. Жидятам он отводит единство места и полное пренебрежение временем, Язычникам — единство времени. Два нарратора — оба тринадцати лет от роду (возраст бар-мицвы). Оба прикованы к постели, один — ангиной, другой — обрезанием. Один — здесь не будем спорить с «Яковом Гольдштейном» — включен во вневременное мифологизированное пространство и выключен из времени, другой — наоборот, плотно сцеплен с 1985 годом, междуцарствием после смерти Черненко и до укрепления Горбачева. Язычник — совершенно ассимилированный советский еврей из совершенно ассимилированной советской семьи. Его старшая сестра Лиля живет с мужем Перманентом, тот боится смерти и тайно ходит в церковь. «Глянь, Семеновна, а вон и епархия пархатая моя притаранилась во благовременье. Ну, стало-ть, перекурим — и начнем благословясь…» Язычника, как и его родных, ничего, кажется, не связывает с еврейством, кроме напоминающего о нем бытового антисемитизма и хорошо усвоенного страха погромов.
Семья Жидят — баба Рая, полуидиот Яшка, три девки и нарратор — вросла с головой в маргинальную, пограничную криптоеврейскую традицию. Последние представители русской ереси жидовствующих, пока их не признаешь за таковых, выглядят фантасмагорической авторской выдумкой, которой на самом деле и являются. Если уж положено для порядка кратко пересказывать, то лучше процитировать: «А мы свою веру содержим издревле и всегда ее укромно втайне шабашим, а что при Николае-кесаре перевернулись якобы в забобоны и ходим к попу Егору в церковь и в клуб Балтфлота на русское кино про Душечку Ковальчик — так это для отвода глаз…» Всё, что не свое, — чужое, забобонное. И «В джазе только девушки» — русское кино. Жидята, не существующие, не могущие больше существовать русские сектанты из XVI века, манифестируют неизбежно искаженное представление светского еврея о том тысячелетнем самоизолированном традиционализме, который чудом пронес, контрабандой протащил его еврейскую идентичность в двадцатый век. И бросить ее нельзя — да и не получится, напоминают, — и идентифицировать себя с ней нелегко. Сложносоставная — религиозная, этническая и социальная — она оказывается в конфликте не только с враждебным и переменчивым окружением, но и с самой собой. Может ли еврей быть светским? Может. Может ли еврей быть иудеем по вере, но неевреем по крови? Может. Так что тогда значит быть евреем? Это какой-то континуум, подобный диалектному, один полюс которого не имеет ничего общего с другим, они не взаимопонятны, и тем не менее они — одно.
Вот и фабульно половины романа зеркальны, и обе не движутся с места. Пропал мальчик — что-то будет. Для Жидят пропал Язычник, для Язычников — Жидята. Мальчик лежит, прикованный к постели, и боится, что придут русские с погромом по навету на евреев из-за пропажи другого мальчика. Вот и всё, и больше ничего. Проза очень статичная и созерцательная, но в то же время плотная, нервная. Это текст орнаментальный, очень сделанный, очень нарочитый, каждое слово обдуманно и неслучайно стоит на своем месте. И в тоже время в нем нет механистической умышленности. Напротив, это поток сознания, два схлестывающихся встречных потока. Вот еще несколько эпитетов: скрупулезность, жадность до точных деталей и порывистое словотворчество. Особенно поражает реликтовый, архаический язык Жидят. Сложносочиненный текст торчит локтевыми изломами наружу и не дается ленивому читателю. Но этой же выпуклостью он цепляет.
Жидята — реально существовавшая фамилия, правда один раз и в XI веке. Лука Жидята — имя второго новгородского епископа, первого русского по происхождению в истории русской церкви. Еще одна смычка с новгородской ересью жидовствующих. И всё у них такое — исподволь подтянутое к самой ископаемой, растворяющейся в мифе реликтовой древности. Даже местная география проваливается в мифологизированный культурный слой. Финский залив называется Хананейским, сами финны — хананеянами, Балтийское море — Алатырским, Хельсинки — «Ерусалим, город старый», Рим — «это у язычников город великий, зовется от них также Питер-Город, Ленин-Город и просто: город». Инвертированным у Жидят оказывается всё: «…нас Субботины пуще всех ненавидят и при любом заглазном случае оговаривают евреями, черным русским словом».
В мифологическом сознании прошлое схлопывается с настоящим. Миф стоит выше истории и географии: «…тыщу лет назад жили в Испании, недалёко от Египета, король Франко с королевой Езавелью. Франко-король был сначала жид, а потом перевернулся в христьянскую веру, в забобонскую, его Езавель-королева перевернула, не то, говорит, больше на яблоко не дам». Всё смешивается в кучу: изгнавшие евреев из Испании Фердинанд и Изабелла оказываются «королем Франко с королевой Езавелью», Захарья Скара, основатель ереси жидовствующих, называется Захаркой, роднится с Моисеем и заимствует его биографию, а Франко-Фердинанд повторяет за Лотом и женится на трех своих дочерях.
Здесь все не те, кем представляются, здесь все крипто-кто-то: «с уважением лит. консультант РАППОПОРТЕНКОВА М. Е.», и даже мичман Цыпун переворачивается в китайца Пун Цы. И все находятся там, где они есть, какой-то немыслимой случайностью, возведенной в рутину:
Один негро-финн иудейского вероисповедания, совершавший круиз на теплоходе «Максим Горький», согласился их свезти до Одессы. Проходя мимо Хайфы, у него слетела на прогулочной палубе черная широкополая шляпа, и он за ней следом прыгнул в Средиземное море, потому что это была очень ценная шляпа, подаренная ему лично любавичским цадиком Шнеерсоном, а папа с борта своего ракетно-сторожевого катера «Иона-пророк-Алеф-бис» негро-финна и шляпу выудил и, согласно международной конвенции о спасении на водах, возвратил на советский лайнер.
Текст романа сложно цитировать, в нем одна фраза тянет за собою целую страницу, но эта длинная цитата довольно эмблематична и заменяет много других цитат: здесь и интертекстуальная литературная игра, и всемирность еврейства, и сюрреалистический нахлест древности на современность, и тараторящая плотность. А всё это вместе суммирует еврейский национальный миф.
Мир Язычника — рутинно-подозрительный: «я должен быть как еврей особенно осторожный». Кажется, ничего, кроме графы национальность и ее последствий, не связывает его с еврейством, но и это — насильственно — обособляет его идентичность. А вот в его прямой речи, наряду с советскими словечками, проклевываются бабушкин ругательный идиш и бабушкины песни: «Что, если я не дождусь до Ленинграда и умру здесь от ангины, как Хаим, никем не замечаем». Он боится погромов. И самый советский, самый ассимилированный еврей остается евреем. Ситуация подчеркнуто парадоксальна: «Если придут Жидята делать погром…» Они и на полуострове после смерти Черненко спрятались, опасаясь погромов, и назад в Ленинград Перманент засобирался по той же самой причине.
Роман можно прочитать как высказывание о сопредельности мифологического сознания обыденному, как рассуждение о сути еврейства. Помещенные на два этажа одного пакгауза, русские евреи и жидовствующие русские больше всего боятся друг друга. Эти две обратные, дистиллированные стороны еврейской жизни, существуя параллельно, оказываются в чем-то удивительно похожи, но не сходятся никогда. Их родство — интонационное, стилистическое. Какая-то неизбывная горячность, взъерошенность пополам с панибратской сопричастностью вечности.
В середине романа внутренние монологи, совершенно зеркальные, сталкиваются. Но эта их близость, похожесть оборачивается взаимным страхом и несовместностью. Жидятам Язычники и Язычникам — Жидята видятся русскими, а значит — потенциальными погромщиками. Жидята напрочь оторваны от модерна, Язычники — от традиции. Оба текста являют собой лихорадочную, до полубреда, рефлексию, извиняемую Яшиным обрезанием и Вениной ангиной. Они и сбивчивы, и последовательны: со звуков и отблесков, с точно схваченных бытовых деталей срываются в воспоминания — и выдергивают из памяти еще больше точных деталей. Узнавание в романе совершенно безрадостное. Вездесущие «Миллион алых роз», фильм «В джазе только девушки» и авианосец «Повесть о настоящем человеке» изматывают своей бесконечной повторяемостью. В пакгаузе душно: и на чердаке у Жидят — от тяжеловесной перевранной древности, и этажом ниже — от тяжеловесных и пошловатых восьмидесятых. Текст обсессивно самообъяснительный — и оттого кажется путанным, слово нанизывается на слово, предложение разрастается на страницу ассоциативным деревом реминисценций. Но из непрестанных отступлений повествование всякий раз возвращается к оставленной мысли, никогда ничего не бросая. Во внутренний монолог обоих героев постоянно вторгаются подслушанные у взрослых фразы на иностранном для вчерашнего ребенка языке — неофициальном ироническом советском («ёксель-моксель-минарет») и мистическом.
Вообще подсознательное схвачено Юрьевым очень точно и проступает через каждую страницу. Его метод — трансгрессия к метафизике через физиологию. Роман обнажает ту жутковатую изломанность, болезненность, неловкость, сопутствующую подростковому возрасту. И выходит через нее куда-то в космос. Эта первобытная непосредственность смыкается в «Жидятине» с еврейством. «А коли от какой капли горячей расплавится там на низу глухой маковый холод и размороженный уд пронзится в индпакетных бинтах по обрезу отталыми молниями, тогда что?!..» Или: «…А вдруг я оттого, что писаю сидя, постепенно сделаюсь женщиной?! <…> Писька у меня постепенно втянется внутрь, и на ее месте окажется дырочка». Текст обескураживает откровенностью, повествуя от первого лица о юношеских фобиях — и берет читателя тепленьким, бомбардирует его стилистически безупречной прозой и бесконечными предложениями утягивает за собой, куда-то в поэтическое, непроговариваемое, ощущенческое.
Так все-таки, кто настоящие евреи — совершенно ассимилированное интеллигентствующее семейство Язычников, тайный выкрест Перманент или совсем уж гротескный, несвоевременный осколок секты жидовствующих на фантомном пограничье? Еврейство оказывается не чисто этнической, но и не чисто религиозной идентичностью. Еврей — это такая специальная, обратная перспектива. Для Юрьева как для писателя его происхождение — не просто факт биографии, но творческий материал. Еврейство — это прежде всего инаковость, некоторая заведомая, предопределенная выхваченность из фона обыденной жизни и специфически заостренное к этой жизни отношение. Ту дистанцию, то остранение, которые нужны писателю, чтобы писать, само рождение евреем подразумевает по умолчанию. И дистанция эта обязательно — взгляд из прошлого, взгляд, суммирующий исторический макропроцесс и в то же время находящийся в стороне от него.
Это ощущение периферийности в романе доведено до своего апофеоза: «Здесь же никогда не глушат, в глуши этой запредельной — не хватало еще тут глушить!» Вымышленная погранзапретзона «Полуостров Жидятин», где даже не глушат Би-би-си, — на периферии тоже периферийного и тоже вымышленного Ленинграда. Отношение Юрьева к Питеру — завороженное. Город совершенно придуманный и потому литературный, он был необходим, чтобы русская культура, стянутая в него столичностью и конституированная им, из этой новой фокальной точки оглянулась на себя и тем состоялась. Сложная идентичность ленинградского еврея заключает в себе то неразрешимое внутреннее противоречие, которое неизбежно при двойном гражданстве в двух больших культурах. Одно рифмуется с другим, одно несоединимо с другим и боится другого. |
|