|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 139 / Апрель 2019 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Виктория Райхер. Эстер, красный цвет. Рассказ. Дружба народов, 2019, № 2
Рассказ про женщину-психолога в израильской армии. У Эстер полно собственных психологических проблем. Родители развелись четырнадцать лет назад, и с тех пор она не видела ни отца, ни брата. Почему — непонятно. Потом выясняется, что у матери имелся телефон отца и, когда героине делали операцию, отец сдал кровь для переливания. Стоящие за этим изгибы отношений остаются загадочными. Основной же сюжет рассказа — анекдотец про огнетушители, испорченные развлекающимися солдатами, — выглядит и вовсе нелепо, ибо автор ухитряется перегрузить его не идущими к делу символами.
Елена Макарова. Глоток Шираза. Роман. Звезда, 2019, № 1
Изобретательно задуманный, но довольно тривиальный по сути и сумбурно написанный «роман в романе». Его вымышленный автор — якобы жившая и умершая в Германии русская женщина. Издатель и комментатор, а заодно прототип главной героини — ее подруга, которую судьба занесла еще дальше от отечества — в Австралию. Случилось это так:
…начинала с Израиля. Фиктивный брак… <…> Поначалу брак был вполне даже настоящим, а в Израиле муж объелся груш: или принимай гиюр, или ты мне не жена. Процедура сама по себе простая. Курсы по иудаизму, зачет в раввинате, ритуальное омовение — и под хупу… <…> Процедура процедурой, а дальше что? Парик, юбка до пят, вечное пузо, куча детишек… Тут меня как ветром сдуло. Сначала в Прагу, оттуда — в Торонто, каким образом, лучше не спрашивать, а то интервью затянется надолго, — потом сюда.
В романе муж фигурирует (выясняется, что сионистом и религиозным евреем он стал под впечатлением от романа Башевиса-Зингера «Раб»). Но основная интрига — неразделенная любовь к героине мудрого старца Ильи Львовича Якобсона, профессора, заслуженного борца с лысенковщиной, фронтовика и лагерника. Прототип угадывается и так, но Макарова (точнее, издательница-комментатор) считает необходимым указать его прямо: генетик Владимир Павлович Эфроимсон.
Героиня ведет сложную личную жизнь, одновременно руководит театральной студией для психически больных детей. Профессор резонерствует и делает неправдоподобно точные исторические предсказания: «Комсомольцы превратятся в бизнесменов, партийцы — в олигархов». Действие между тем происходит в 1989 году. Ну не было тогда в обиходе слова «олигарх»!
Майя Хагерман. Дорогой Херман. Загадка Хермана Лундборга, эксперта по расовой биологии. Фрагмент книги. Звезда, 2019, № 2
Борец за «расовую гигиену», измерявший черепа своих соотечественников, шведский врач Херман Бернард Лундборг (1868–1943) главным образом опасался смешения с финнами и саамами:
Имеющие относительно чистое германское происхождение шведы — это благородная и биологически благополучная раса. И мы должны быть благодарны за это, ибо столь выгодное положение занимают лишь немногие народы мира.
Подолгу живший в Лапландии, друживший с местными жителями, крестивший у них детей, Лундборг на самом деле изучал их как низшую расу, подлежащую если не искоренению, то подавлению и изоляции.
Евреи профессора Лундборга специально не занимали (в Швеции их было немного), но нацисты считали его одним из своих предшественников и с почтением ссылались на его труды — в том числе обосновывая программу «окончательного решения еврейского вопроса».
Елена Скульская. Самсон выходит из парикмахерской. Роман. Звезда, 2019, № 3
Русский писатель из Эстонии предлагает метафорическое описание той поликультурной реальности, в которой проходит жизнь языкового меньшинства, ставшегося заложником непростых отношений Морской Державы и Занаровья (такие термины используются автором). Фантастические детали, свифтовски острые намеки на реальные события (зачастую плохо понятные российскому читателю), преобразующий действительность мир театра — всё сливается воедино.
Евреи присутствуют как некая третья сила; где они появляются — там начинается совсем уж мрачный гротеск:
…скоро война. Вчера отклонили мое замечательное предложение: корректно разорить еврейское кладбище, найти драгоценности — прежде всего обручальные кольца, которые не могли снять с распухших за долгую семейную жизнь рук перед похоронами. К обручальному кольцу у евреев часто присоединяется бриллиантовое и тоже врастает в распухающий палец. Кольца сами бы спадали с разложившихся трупов. Уверен, чисто по-человечески люди бы поняли актеров, играющих вандалов, ведь кольца во время войны мы бы стали менять на хлеб для своих детей. Председателю еврейской общины я посоветовал выступить с большой речью по телевидению, обращаясь к своим согражданам. Он бы сказал: «Европейцы никогда не совершали акты надругательства над кладбищами и трупами, как многие другие народы. И мне от всей души хочется верить, что мертвые евреи отныне будут так же спокойно лежать в своих могилах и спать вечным сном, как и при жизни».
Дмитрий Веденяпин. С точки зрения сосен. Стихи. Знамя, 2019, № 1
Не особенно глубокие, но тонкие (как обычно у Веденяпина) стихи. Прибалтийский пейзаж, населенный отдыхающими с более или менее еврейскими именами-отчествами: Лев Маркович, Марк Львович… Или, например:
За розовым стеклом стоит Яглом. За ним лежит латвийский берег дальний. И лес наверх уходит под углом К его, Яглома, лысине печальной.
Фамилия редкая. Начинаешь подставлять реальных лиц: математик Исаак Яглом, физик Акива Яглом (братья-близнецы, кстати), переводчик Менахем Яглом (сын Исаака, кстати)? Будем считать, что перед нами — безвестное частное лицо…
Александр Городницкий. Стихи. Нева, 2019, № 2
Демонстрируя нескудеющее (в рамках своей интеллигентно-советской поэтики) мастерство, 86-летний поэт признается в любви к импрессионистам, Батюшкову и Баратынскому, скорбит о возведении Лахтинской башни («дворцов и шпилей навсегда утрачен над городом небесный силуэт»), но в итоге примиряется с ней, чтит память героев Великой Отечественной войны и выступает за мир.
Два стихотворения — о Холокосте. Первое — о том, как поэт проводит свой творческий вечер в Иерусалиме, в зале, где судили Эйхмана:
Вспоминаю с тоскою тяжкою Беларуси родной края, Могилев и поселок Пашково, Где убита моя семья.
Второе стихотворение называется «К запрету в Польше упоминания о Холокосте». Уже заглавие содержит неточность и фальшь. Запрещено не упоминать о Холокосте, а говорить о коллективной ответственности польского народа. Сам по себе этот запрет не радует — как любое ограничение свободы слова и как любое стремление уйти от разговора о темных страницах национальной истории. Но все-таки стихотворение Городницкого оставляет неприятный осадок:
Сомнения мучительные бросьте, — Их не отмолишь, сколько ни молись. Но немцы признавались в Холокосте, — Поляки от Едвабне отреклись. Им сроду бы не помнить тех трагедий, Испытывая полуночный страх, Но мебель убиенных их соседей Пылится и сегодня в их домах. <…> Встает заря над черепицей кровель. Года войны в забвение летят. Отмылись немцы от еврейской крови, — Поляки отмываться не хотят.
Национальное покаяние по указу невозможно, а прокурорская интонация по отношению к целому народу неуместна. Не говоря уж о том, что приравнивать Едвабне и другие темные эпизоды польской истории, связанные с евреями, к преступлениям нацистов — все‑таки перебор: масштабы не те.
Валерий Бочков. Певчие птицы Латгалии. Рассказ. Нева, 2019, № 2
В качестве «рассказа» в данном случае выступает фрагмент романа «Возвращение в Эдем», напечатанного год назад в «Дружбе народов». Отклик на него в нашем обзоре в свое время появился. Добавить нечего.
Игорь Исаев. Удержать прошлое: как Польша, борясь с коммунизмом, губит демократию. Неприкосновенный запас, 2019, № 1(123)
Статья анализирует «правый ренессанс» в современной Польше. Поднявшие голову и частично пришедшие к власти националистические силы (их самые известные представители — братья Качиньские) воспользовались ошибками своих либеральных предшественников и оппонентов:
Они (либералы. — В.Ш.) представляли путь страны как историю успеха, бескровной и мирной революции, в результате которой коммунисты передали власть окружению Валенсы, начавшему экономические и политические преобразования, позволившие Польше добиться главной цели — вступить в НАТО и ЕС. Эта история была хороша для либеральной элиты, но со временем с ней все меньше могли отождествлять себя люди, пострадавшие от реформ: жители бывших совхозов; безработные, зачастую уволенные с больших развалившихся предприятий; пенсионеры, вынужденные эмигранты.
В общем, знакомое дело. Только у нас, в России, за «историю успеха» выдавалось то, что на успех было похоже еще меньше. И с еще более катастрофическим для демократии результатом…
Однако вернемся к Польше. Одно из направлений ревизии проводившейся ранее политики: принципиальный отказ от покаяния и от диалога с соседями — будь то украинцы или евреи, русские или немцы. Возвращения к антисемитизму на уровне политической риторики не происходит (хотя народный антисемитизм никуда не делся, несмотря на отсутствие евреев). Происходит иное:
…память об убийствах поляками евреев теперь вытесняется памятью о поляках, которые евреев спасали. И это не исключает, например, публичного порицания Киева за антисемитизм или за коллаборационизм украинцев в годы Второй мировой войны.
Понятно, что все это не улучшает отношений Польши ни с Израилем, ни с Украиной.
Владимир Бабенко. Калеки. Комедия в одном действии. Урал, 2019, № 2
Пьеса начинается с допроса — в сибирской глуши — Гаскина Сергея Ароновича, арестованного в 1952 году:
Я, Гаскин-Слепнер… Сергей Аронович… повторник… В тридцать седьмом я ввел следственные органы в заблуждение, отбывал в местах заключения… потом все дооформим… скрыл свое звериное лицо заклятого врага народа… сего числа… на допросе у майора Гринько сделал признание… в том, что… являясь заклятым врагом советского строя и товарища Сталина… используя свое служебное положение главврача районной больницы, я, Слепнер, создал вооруженную бандитскую ячейку… с целью примкнуть к московским врачам-отравителям, моим, то есть не моим, а его… учителям по московскому мединституту… а также с целью убийства первого секретаря… района… или горкома? Подумаем… путем укола смертельного раствора… Гм… Слушай, Слепнер, как он там по-научному, ну, укол этот…
Дальше действие начинает — по всем правилам драматургии — развиваться непредсказуемо. Сын майора Гринько, октябренок, случайно стреляет из отцовского пистолета, убивает подследственного и простреливает портрет Сталина. И это повод показать изнанку реальности. Оказывается, все герои — а это сотрудники НКВД и их родственники — на самом деле живые и симпатичные люди, ненавидящие советскую власть. И все они — украинцы или сибиряки-чалдоны. Единственное исключение — жена убитого Гаскина Регина, фанатичная коммунистка и идейная стукачка. Впрочем, и ей приходится несладко:
Серый мой, мой Арончик! Это я, я пришла к тебе наконец, твоя королева, твоя верная Регина-Рябина… Пришла я на костылях, не пришла, Арончик, а приползла. Из-за тебя, Арончик, и пострадала. Один лейтенант МГБ, такой милый молодой человек, во время допроса пнул мне в лодыжку сапогом и сломал мне там какую-то косточку… он, я уверена, не хотел меня покалечить. Такой симпатичный, такой ухоженный офицер, похоже, из порядочной еврейской семьи…
Да, еще более неприятный персонаж — лейтенант Ашкенази. Не украинец, не чалдон, а просто-напросто мерзавец. И как к этому относиться?
Написана же пьеса хорошо. Ну вот очень даже умело написана…
In memoriam: Олег Юрьев (1959–2018). Новое литературное обозрение, 2019, № 1(155)
Большой блок материалов, посвященный Олегу Юрьеву, включает статьи о нем, воспоминания, послесловие к немецкому изданию одной из его последних книг, фрагменты этой книги — «Обстоятельства образов действия».
Пожалуй, стоит ограничиться цитатами.
Писательство превращает человека в стул. И в персонажа, сидящего на этом стуле за письменным столом. Из этой профессиональной мышеловки нет выхода. Хотя Олег в последние годы нашел, кажется, этот выход. Мне кажется, он умер внутренне освободившимся, действительно свободным человеком. «Мир ловил меня, но не поймал», — написано на могиле Григория Сковороды. Олег любил эти слова. Я думаю, мир не поймал и Олега. И одиночество также было этому ценой. (Ольга Мартынова)
Взамен ледяных смыслов официальной культуры с их ледяным дыханием Юрьев предлагает иное, по-настоящему человечное бытие. (Алексей Порвин)
Что касается Юрьева, то здесь мы имеем дело с литературой одновременно русской, немецкой и — не в последнюю очередь — еврейской; и именно такая одновременность, такое противоречивое и неразделимое взаимопроникновение разнородных частей позволяет высекать искры. (Томас Штангл)
Не знаю, ощущал ли Юрьев себя немецким писателем. Может быть, в последние годы… Что касается русской и еврейской составляющей, то у меня был с ним разговор на эту тему очень давно, в 1980-е годы, и вот какими словами Олега он закончился: «Быть писателем — это само по себе настолько серьезно, что все определения рядом с этим незначительны».
А вот цитата из «Обстоятельств образов действия» (это своего рода стихотворения в прозе, часть из которых была написана в самые последние месяцы жизни):
Люди умершие — действительно ли они слышат, когда их вспоминают? Особенно давно умершие — неприятно ли им секундное пробуждение по случайному воспоминанию, перерыв вечного сна? А недавно умершие? Просто оглядываются и видят бесконечную лестницу эскалатора и твое полузнакомое лицо?
Там много замечательного — про «еврейских чаек Эвелину Соломоновну и Фаню Абрамовну» в осеннем Крыму, про китайских туристов во франкфуртском аэропорту, про черного кота Неро…
Но цитировать сейчас хочется только это.
Подготовил Валерий Шубинский
|
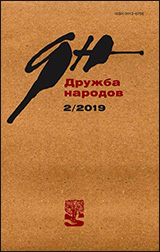     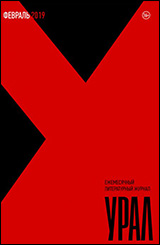 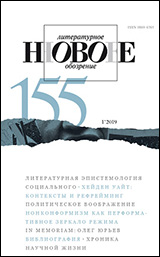 |


