|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 137 / Декабрь 2018 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Ефим Гаммер. Третий глаз. Документально-художественная повесть о реальной жизни с фрагментами воспоминаний моей старшей сестры Сильвы Аронес. Дружба народов, 2018, № 7
Материал интересный (жизнь эвакуированной еврейской семьи с одесскими корнями в Чкалове, как именовался тогда Оренбург, а потом в Риге), но плохо использованный: вычурная, претенциозная, путаная и в целом художественно малоубедительная проза. Например:
Где бывалый еврей, выросший у Самого Синего моря и проведший несколько последних лет в ГУЛАГе, ищет пропавших без вести родственников? Правильно! На базаре. По прибытии из Соликамского лагеря в Чкалов дедушка Аврум Вербовский заковылял, опираясь на костыли, по направлению к городскому рынку. И там спросил громко у озабоченного куплей-продажей люда: — Я имею интерес узнать, если есть на этом толчке евреи из Одессы? — Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы, — откликнулся мой папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы «Хоннер» фрейлехсы собственного сочинения для развлечения задолбанной ценами рыночной публики (буханка хлеба — месячная зарплата).
Ну да. Приходит на рынок и сразу встречает собственного зятя, который почему-то не узнаёт его… Кажется, «реальная жизнь» пала жертвой «художественности»…
Александр Кабанов. Меж двух отчизн. Стихи. Дружба народов, 2018, № 7
Не так уж уютно, видимо, быть сейчас в Киеве русским поэтом (хотя бы в чисто техническом смысле — поэтом, пишущим по-русски) — несмотря на то, что сам-то русский язык на улицах по-прежнему звучит не меньше, чем украинский. Особенно неуютно тому, кто не скрывает своего отвращения и к российскому имперству, и к украинской этнократии.
И мне не важно, что сейчас на ужин: вареники, а может, снегири, меж двух отчизн, которым я не нужен, — звезда моя, гори, гори, гори.
И все-таки Александр Кабанов не только сам пишет, но и создает мощное культурное поле, которое — хочется верить — никуда не пропадет и будет востребовано.
Еврейская тема неминуемо возникает — хотя бы потому, что без нее немыслима история Украины, но также и в силу естественных психологических аналогий. Если, как сказала Цветаева, «в сем христианнейшем из миров поэты — жиды», то уж в промежуточной, межеумочной и оттого особенно уязвимой ситуации — тем более:
Все мы — полубоги, полукровки, познакомься, едкий газ вдыхая: это — птица феникс из духовки, это — тетя сара из дахау.
Ефим Бершин. Как чужой перевод. Стихи. Дружба народов, 2018, № 7
Торжественно-водянистый псевдомандельштамовский ямб, освященные традицией «отары», рифмующиеся с «приемом стеклотары»… И что-то такое приблизительно иудео-христианское — на уровне знаний советского интеллигента, почерпнутых из Фейхтвангера:
По улицам горбатым и косым, неудержимо следуя прогрессу, летит сквозь дождь Веспасианов сын, влюбленный в иудейскую принцессу.
Уже давно распяли на заре юродивого юного раввина. И напряженно дремлет на золе сожженная российская равнина.
В целом, впрочем, не хуже, чем у людей.
Хуан Майорга. Карта мира (Варшава, 1:400 000). Пьеса. Иностранная литература, 2018, № 8
Пьеса испанского драматурга, уже поставленная во многих театрах мира (в том числе и в России), посвящена гибели Варшавского гетто. Действие происходит то в наши дни (в Еврейском музее Варшавы), то в 1942-м, то в 1968-м. В центре сюжета — легенда о карте гетто, якобы нарисованной стариком-картографом и маленькой девочкой…
И сама идея музеефикации ужаса, и метафорический образ карты несут в себе трагическое противоречие. Ведь нацисты тоже собирались устроить музей побежденного еврейства. А карта — «это оружие, оружие враждующих сторон». Единственная сохранившаяся карта гетто составлена нацистами: «Самые точные карты делает враг». Попытка картографирования гетто изнутри связана с отчаянной и утопической идеей противостояния. Внутри карты обреченные обретают свой «эдем».
И все-таки это всего лишь утопия, ведь «помнится только то, что нельзя нанести на карту: замызганные дырявые туфли, босые грязные ноги, стоны, что доносятся из сгоревшего гетто, сменившая стоны тишина».
Майорга смотрит на трагедию Варшавского гетто несколько извне. Он упоминает общеизвестные факты (гибель Януша Корчака, самоубийство главы юденрата Адама Чернякова), но внимание его приковано, прежде всего, к каждодневной жизни на краю гибели. Эта жизнь не может быть ни уничтожена, ни спасена картой. Эта жизнь восстает против схематизма человеческого сознания.
Юлия Михайлова. Записки девочки из «обеспеченной» семьи. Нева, 2018, № 7
Чуть ли не единственная сильная сторона нынешней «Невы» — мемуаристика и «частная история». Воспоминания обычных людей, чья жизнь лишена каких-либо ярких событий, создают житейский фон, важный для понимания эпохи.
В семье японистки Юлии Михайловой тоже ничего особенного не происходило. Семья — почтенная, старорежимная. Бабушка — из купцов (владельцев булочных), бестужевка, родной дед — белый офицер… В двадцатые годы овдовевшая бабушка-лишенка вышла замуж за соседа по коммуналке, детского врача Аркадия Борисовича Воловика, которого автор воспоминаний всю жизнь считает своим дедушкой:
Дед вспоминал, что в годы учения в Казани его только косвенно затронули еврейские погромы, поскольку околоточный всегда предупреждал состоятельных людей заранее, за что и получал неизменно свой рубль. По окончании университета дедушка был направлен на работу в госпиталь в Никольск-Уссурийск, но перед этим заехал в Петроград (шел 1915 год) навестить своего дядю Е.С.Боришпольского, являвшегося психиатром, по воспоминаниям дедушки, чуть ли не при дворе Его Императорского Величества. Дед также утверждал, что один раз ему довелось сыграть в карты с самим Николаем II. Эти воспоминания, а возможно, и вымыслы были одним из любимых рассказов дедушки.
Можно подумать, что в Казани, за сотни километров от черты оседлости, еженедельно происходили еврейские погромы. На самом деле за всю историю погром там был один, правда, большой и долгий (в октябре 1905 года). Игра в карты с Николаем II, видимо, еще менее достоверна. Другая яркая (и опять-таки — бог весть насколько достоверная) деталь: дядя Боришпольский женат на сестре Иды Рубинштейн.
Семья доктора Воловика была «обеспеченной» благодаря его высокой квалификации. Доктор лечил детей городского начальства. В связи с этим он пережил немало волнений во время «ленинградского дела», а потом «дела врачей», но пронесло. Не уезжал доктор с семьей из города и в блокаду, но, очевидно, они и тогда находились на особом положении. Внучка же смогла поступить на восточный факультет ЛГУ — одно из самых привилегированных и «блатных» мест по советским меркам. Еврейский дедушка своим существованием ей в этом не помешал, а может быть, даже и помог — ведь это был правильный еврейский дедушка.
Семен Ласкин. «...Показалось интересно, даже очень...» Писатели, музыканты, люди кино и театра в дневниках 1961–1998 годов. Нева, 2018, № 9
Ничего сенсационного, ничего особенно глубокого, но много интересных мелочей — про более или менее знаменитых людей. Тут и недавно умерший Андрей Битов, и Виктор Соснора, и Смоктуновский… Очень живые и узнаваемые интонации. Кое-что удивляет — например, подробный рассказ о беседе с Валентином Распутиным. Автор «Прощания с Матёрой» в 1978-м выглядит вполне адекватным человеком: читает Набокова, восхищается Маркесом, без раздражения отзывается о «Пушкинском доме» Битова (где язвительно описаны гуманитарии-«почвенники») и — никаких проявлений антисемитизма. Уже несколько лет спустя Распутин стал совсем иным…
Еврейская тема? Присутствует и она:
Зильберштейн о Шагале. — Посмотрите, куда залез витебский мальчик! — это Шагал показывал ему потолок Гранд Опера. В другой раз, когда З. сказал ему: — А если бы вы на улице увидели такую же женщину, как вы нарисовали, то как бы вы прореагировали? Он ответил: — Илья Самойлович, ну мы-то с вами знаем, что такое женщина.
А это уже из предисловия, написанного сыном, Александром Семеновичем Ласкиным:
Была такая переводчица Анна Семеновна Кулишер. По-русски она писала идеально, а говорила с небольшим еврейским акцентом. <...> Гуляет она в Комарово где-то в районе вокзала. К ней подходит дама и спрашивает: — Как пройти к Дому творчества писателей? — Надо идти все время прямо, — отвечает Кулишер, — когда вы увидите стадо идиотов, это и будет то, что вы искали.
Не очень понятно, причем здесь «небольшой еврейский акцент» и записки Ласкина-отца, но… смешно.
Раиса Орлова. «Родину не выбирают»… Из дневников и писем 1964–1968 годов. Знамя, 2018, № 9
Раиса Давыдовна Орлова и ее муж Лев Копелев — представители уже не очень понятного нам сейчас типа советских интеллигентов: «коммунисты с человеческим лицом», ненавидящие Сталина, не одобряющие послесталинские власти, но верные господствующей идеологии.
Харьков. Лев ходит по развалинам, юношей он ходил по этим улицам. А если бы жил в другой стране? Было бы то же самое, тоже стал бы коммунистом, и наступил бы для него 1956 год, но только менее трагично.
А вот умный советский карьерист Сурков считал, что «Копелев должен бы быть в партии с буквой "М"» — другими словами, быть «нормальным» европейским социал-демократом…
Копелев и Орлова дружат или общаются с Ахматовой, Надеждой Мандельштам, Бродским, ощущают себя с ними по одну сторону баррикад, но в то же время легально ездят в ГДР и полемизируют в западной печати с «антисоветчиками» — и делают это тоже искренне. Они симпатизируют Дубчеку — но «новые иллюзии» умирают вместе с «Пражской весной». Они — евреи, но еврейская тема для них возникает только в связи с войной («Сима Маркиш не ест с немецкой посуды, не хочет, чтобы мать ехала в Германию…») или в общесоветском контексте:
Одесса. Власти не хотят даже комнаты-музея Багрицкого. Ничего. Ничего не оставить, не помнить. А камни помнят. И люди. Одна из улиц в Одессе была Дегтярная, потом Мойхер-Сфорима, потом — Вышинского, теперь опять Дегтярная. Держатся только старые названия.
Ольга Бугославская. Глазами нонконформиста. Знамя, 2018, № 9
Довольно странная рецензия на книгу Дмитрия Раскина «Борис Суперфин» (М.: Водолей, 2017) — рецензия, представляющая собой пересказ романа и завершающаяся так: «Дмитрий Раскин не пытается никого предостеречь или о чем-то предупредить, исправить или наставить. Он констатирует упадок, не особенно надеясь на что-то повлиять». Какой упадок? Чего упадок?
Один из эпизодов биографии героя выглядит так:
Вернувшись домой, Борис находит папку с рукописью, ни много ни мало, киносценария, написанного его матерью и посвященного его бабушке — Басе Львовне. Киносценарий представляет собой отлившийся в форму жития миф о бабушке-большевичке как святой подвижнице и самоотверженной героине Революции. О Басе Львовне, в частности, было известно, что во время гражданской войны она, как сотрудница ЧК, была внедрена в один из госпиталей с целью выявления среди раненых белых офицеров. Одним из тех, кого начинающая чекистка выдала органам, был двадцатилетний подпоручик по фамилии Орлов, впоследствии расстрелянный…
Опять-таки из рецензии не очень понятна функция в романе этой сюжетной линии. Ну не очень хорошей оказалась бабушка Бася, а дальше-то что?
И наконец — редакционное примечание:
К филологу и правозащитнику Габриэлю Суперфину его случайный однофамилец Борис отношения не имеет.
Не имеет и не имеет, прекрасно, но что заставило автора дать герою достаточно редкую фамилию, принадлежащую известному человеку (тем более что в начале романа герой, философ и литератор, живет в Дрездене, а Габриэль Суперфин, как известно, работает неподалеку — в Бремене)? Рецензент и этого не объясняет.
Александра Багречевская. Мерцание чего-то невероятного. Знамя, 2018, № 9
Рецензия на сборник интервью «Частные лица» (М.: Новое издательство, 2017). Автор-интервьюер Линор Горалик, московский поэт и прозаик с израильским гражданством, беседует с собратьями по перу об их биографиях и семьях. Среди интервьюируемых, кстати, тоже есть русские израильтяне (Гали-Дана Зингер, Демьян Кудрявцев), а у многих писателей-россиян, естественно, присутствуют еврейские корни и еврейская память. Вот, скажем, Лев Рубинштейн:
Лев Рубинштейн… поведал о погромах на Украине, о том, как к его деду и матери на мельницу явились погромщики, и среди них были даже соседи: «Во время гражданской войны погромы устраивали все, кроме двух армий: красных и немцев. На улице жила вдовая попадья, которая, когда начинались погромы, всех еврейских детей собирала и прятала в своем подвале. К ней погромщики, естественно, не входили».
В действительности красные тоже устраивали погромы. Но, кажется, это неизвестно не только рассказчику, но и автору с рецензентом… А вообще, все говорят о разном — кто-то о родном доме, кто-то о болезни ребенка, кто-то об эстетических впечатлениях — живописи, музыке. Увы, рецензия вновь сводится к пересказу книги. Интересный проект Линор Горалик заслуживает более глубокого и развернутого отклика.
Вера Шервашидзе. «Воображаемое» и «пережитое» в романах Ромена Гари. Вопросы литературы, 2018, № 4
Старательная, несколько ученическая статья про классика французской литературы. Особое внимание уделено роману «Пляска Чингиз-Хаима». Содержание романа, как известно, таково: дибук погибшего артиста-еврея, выступавшего под псевдонимом «Чингиз-Хаим», живет в голове полицейского, бывшего эсэсовца.
Логика постоянного перемещения «верха» и «низа» превращает побежденного в захватчика и оккупанта. Трагедия превращается в клоунаду. <…> Гротескность ситуации изначальна: повествование ведет тот, кого нет. Чингиз-Хаим — результат угрызений совести Шатца, и одновременно он — результат рефлексии Шатца. Дибук — метафора амбивалентной парадоксальности мира, переосмысление расщепленности «я»…
Видно, что исследователь любит Бахтина. Вопросы о том, насколько релевантен метод материалу и нельзя ли было эти довольно простые мысли выразить без несколько комичного профессионального жаргона, остаются открытыми.
Подготовил Валерий Шубинский
|
 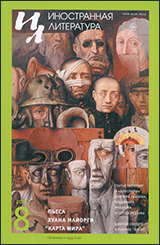    |


