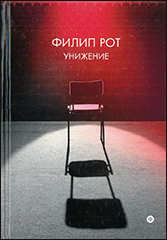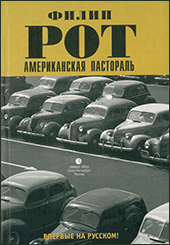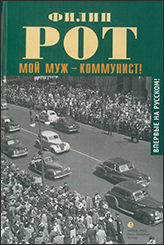|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 134 / Июнь 2018 In memoriam
|
|
||||||||
|
…лишь бы был здоровенький.
Филип Рот (1933–2018)
1
Во-первых, он перестал писать несколько лет тому назад — значит, не как человек, а как писатель умер тоже несколько лет тому назад. Пора бы и привыкнуть.
Во-вторых, далеко не все его романы, включая лучшие и важнейшие, переведены на русский язык. Эти лучшие и важнейшие, несомненно, переведут, уже переводят — значит, для русской аудитории он останется жив и активен по крайней мере еще несколько лет, коль скоро до нас будут, как свет погасшей звезды, доходить русские версии его книг.
В-третьих, есть очередной шанс проверить слова о «бессмертии» писателя, выяснить, насколько серьезно мы относимся к этому речевому штампу.
Я говорю, понятное дело, о Филипе Роте.
И все-таки нам будет его не хватать.
Нам, русским евреям, его не хватает уже очень давно, не хватало и раньше — и двадцать, и тридцать лет тому назад. Нам не хватало такого писателя, как Филип Рот, всегда. Потому что Рот взял на себя миссию стать голосом современного американского еврея, секулярного, успешного, живущего в большом городе и изредка вспоминающего, что его деды-прадеды приехали мучиться в «дивный новый мир» Америки из восточноевропейского местечка, в то время как он-то сам в этом мире — словно рыба в воде. А у нас, русских евреев из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, далее везде, такого писателя и нет, и не было. Что у нас есть? Юрий Карабчиевский с его талантливой, но депрессивной «Жизнью Александра Зильбера»? Сравнивать единственный роман Карабчиевского с многочисленными романами Филипа Рота — все равно что сравнивать любовно налаженный хозяином «Запорожец» (сам все гаечки подтянул!) с крайслерами и фордами, которые, рыча моторами, один за другим сходят с конвейера. Асар Эппель и Маргарита Хемлин? Но это про недоуехавших из местечка — физически, социально или ментально, про, так сказать, еврейских евреев. Мы же, нынешние русские евреи, как бы не имеем голоса. Никто не расскажет «городу и миру» о том, как это — оставаться евреем в России, не ходя в синагогу, не говоря на идише, относясь к Израилю со снисходительной опаской, женясь на шиксах — и через всё это еще больше утверждаясь в своем еврействе.
Не боясь обвинений в вульгарном социологизме, утверждаю: все дело в том, что русские и американские евреи поменялись местами. Некогда Россия была еврейской метрополией, а США — провинцией. В какой-то момент они сравнялись. Сейчас Америка окончательно стала центром диаспоры, а Россия — ее бедной и печальной периферией. Как в начале ХХ века Россия дала миру главного еврейского художника — Марка Шагала, так Америка в его конце — главного еврейского прозаика[1].
2
Эта статья — не критика, не рецензия, а, увы, некролог, так что о конкретных сочинениях Рота я буду говорить мало, больше о нем самом как о культурном явлении, как о «зеркале», в котором пусть искривленно, шаржированно, но узнаваемо отражаются время, место и действие[2]. Американское еврейское время, американское еврейское место и американское еврейское действие — судорожное, невеселое, полное то безудержной самоуверенности, то врожденных подсознательных страхов.
Всю свою долгую творческую жизнь, около полувека, Филип Рот то так, то эдак писал только про евреев. Возникает вопрос: почему его книги интересны кому-то еще? Во-первых, разумеется, потому что хорошо написаны. А во-вторых, потому что еврей, на этот раз американский, в очередной раз оказался идеальной моделью «человека вообще» — такая уж с давних пор особенность у еврейских персонажей. Любой американский еврей живет не там, где жили его предки, говорит не на их языке, не соблюдает их обычаи, не разделяет их мораль и ценности, но чем меньше в нем той идентичности, которую можно пощупать, тем больше той, в которую можно поверить. Теперь, в эпоху всеобщего рассеяния, сходное утверждение применимо ко всё большему числу людей самого разного происхождения. Характерный пример: белокожий афроамериканец, герой романа «The Human Stain» («Людское клеймо», 2000), одного из лучших произведений Рота, выдает себя за еврея. В наше время, для того чтобы стать «человеком вообще», «человеком без свойств», «человеком как все», нужно стать «евреем», то есть человеком с совершенно определенными, хотя и трудно определяемыми свойствами. Недаром Холокост — исключительно еврейская травма — стал теперь универсальной травмой человечества. Ничего хорошего в подобном «всечеловечестве» нет, это предмет не для гордости, а для невроза, но тут уж ничего не поделаешь.
Чтобы абсолютизировать собственное еврейство, а значит собственную всеобщность, писатель Филип Рот часто делает героя писателем — своим alter ego. Писатель — и в этом болезненная диалектика Рота раскрывается с особенной полнотой — это безумец, мечущийся в зеркальной комнате, то есть тот, кто профессионально смотрит на себя со стороны, умножая тем самым до бесконечности вопрос «кто я такой?» — центральный вопрос современности.
3
Поразительным образом, чтобы окончательно довести «проклятые» общие вопросы до точки кипения, Филипу Роту приходится быть предельно конкретным. Его герой почти всегда не просто еврей и не просто американец, а американский еврей из Ньюарка (штат Нью-Джерси), родного города автора. Мелкий эмпирический быт, вечное «здесь и сейчас», куча родственников, отцовская лавка, районная школа, бейсбольный стадион, университетский кампус — одним словом, «когда б вы знали, из какого сора». И теперь, благодаря Филипу Роту, читатель непременно обязан знать, из какого именно личного, биографического «сора» растет вот это всё, а иначе он ничего не поймет и ничему не поверит.
Он всегда писал длинно, тем самым претендуя не только на внимание, но и на время читателей. Это длиннописание и многописание приводило к раздражающим самоповторам. Но, во-первых, эти самоповторы не лишены своей привлекательности — подобно тому, как бесконечное повторение (но обязательно с вариациями) придает особую прелесть фольклору. Во-вторых, как только читателю начинало казаться, что он привык к героям и обстоятельствам Рота, так тот сразу выдавал нечто, имевшее очень мало общего со всем предыдущим. Или, допустим, на четвертом десятке лет литературной карьеры писал роман, опровергавший его раннюю прозу. Мало того что скука, которую порой навевали его книги, была благодетельной, так еще и ощущение скуки — ложным.
Вот, например, два романа о еврейском детстве в Ньюарке: «The Plot Against America» («Заговор против Америки», 2004) и «Nemesis» («Немезида», 2010)[3]. Фактура романов сходная, и в то же время общего между ними очень мало. Первый написан в жанре альтернативной истории: Рузвельт проигрывает выборы, Линдберг побеждает, фашисты приходят к власти в США. Второй — об эпидемии полиомиелита, поразившей детей Ньюарка в 1943 году, и об учителе, который испугался и сбежал. «Немезида» кажется невинной смесью морализаторства и бытописательства — до тех пор пока не понимаешь, что это притча о Холокосте, который в самом романе, впрочем, даже не упоминается.
Вот «Counterlife» («Другая жизнь», 1986), где в очередной раз появляется, чтобы наконец умереть, alter ego Филипа Рота, великий американский еврейский писатель Натан Цукерман. Между прочим, центральное место романа — это некролог Цукермана, написанный им себе самому, то есть Филипу Роту. Автор и его герой были не из тех, кто оставляет такую важную вещь, как собственный некролог, на самотек. Этот автонекролог Цукермана — творческий манифест Рота и одновременно самая точная авторецензия. Позволю себе одну единственную цитату:
…роман Натана (то есть Натана Цукермана, то есть Филипа Рота. — В.Д.) — это классика безответственного преувеличения, издевательская комедия, странным образом проецируемая на все человечество; это произведение представляет собой выворачивание наизнанку авторской души, оживляемое бесстыдной наглостью описаний, где автор в гипертрофированном виде подает свои недостатки и предоставляет себе свободу, отчаянно веселясь при совершении дурных поступков…
«Отчаянно веселясь при совершении дурных поступков», Филип Рот двадцать лет спустя эксгумирует Цукермана и пишет о нем еще один, на этот раз последний, роман «Exit Ghost» («Призрак уходит», 2007). Кажется, писатель твердо усвоил принцип «Вавилонской библиотеки» Борхеса, гласящий, что ни одна книга не может считаться завершенной, пока не написано ее опровержение. Оказывается, великий и ужасный Цукерман не умер, а ушел, как Лев Толстой, уехал в глушь, как Тевье-молочник — в Палестину. А теперь воскрес в новой Америке Буша-младшего, потому что она так не нравится Филипу Роту, что от ужаса и мертвые воскреснут.
В общем, с этим автором не соскучишься.
4
Филип Рот, как мало кто из современных прозаиков, а в его поколении, видимо, вообще как никто, верен старому доброму реализму. Он вернул реализму человеческое достоинство. Как сказал Экклезиаст, прародитель всех еврейских скептиков и циников, «живая собака лучше мертвого льва». Один мой родственник, великий шутник, вопрошал в ответ: «Неужели живая собака лучше мертвого Льва Толстого?» Некоторым казалось, что лучше. Но Филип Рот так не считал: он влил в старые реалистические мехи молодое вино. Пусть оно порой кисловато, но пьянит по-настоящему. Придуманный Борхесом Пьер Менар, автор «Дон-Кихота», несколько обтрепался от долгого употребления, но все еще сохраняет объясняющую энергию. Филип Рот пишет реалистическую прозу после модернизма и с учетом модернизма.
В писательской работе Рота многое объясняет список его читательских предпочтений. Этот список прост, как список товаров, которые небогатая мать семейства покупает в продуктовом магазине. Всё самое очевидное, самое полезное, самое нужное: картошка, капуста, яблоки, а не бататы, руккола, манго. Толстой, Достоевский, Хемингуэй, Фолкнер, Кафка, Флобер, Беллоу. К тому же у известных всем авторов Филип Рот называет наиболее известные книги: если Толстой, то «Анна Каренина», если Достоевский, то «Преступление и наказание». В этом списке, кажется, нет ничего личного, но нет и ничего лишнего. Похоже, своим выбором Филип Рот намекает нам, что и сам скромно намерен когда-нибудь оказаться в перечне авторов, которых изучают в школе.
Я бы непременно включил пару его книг в школьную программу. Уверен, когда-нибудь так и произойдет.
5
Филип Рот писал, не гулял. Написал три десятка романов, то есть создавал по длинному произведению (коротких романов не бывает) примерно каждые два года. Повторялся и в то же время был необыкновенно разнообразен. Откликался на злободневные политические темы и все время размышлял о вечном. Дал, как я уже упоминал, исчерпывающий портрет американской еврейской семьи, чьи предки начали с потогонных мастерских, среднее поколение пробилось в лавочники, а нынешнее преподает в университетах, как правило что-нибудь гуманитарное, рассуждает о великом и все время напряженно думает о бабах.
В чем Филип Рот позволил себе стать действительно новатором, так это в разговоре о сексе. Между прочим, главное оружие антисемитов со времен Иосифа Флавия — это вовсе не кровавый навет, а обвинение евреев в распущенности и похотливости. Дескать, восточный народ, не знают ни стыда, ни совести, ни отдыху, ни сроку.
Но чем больше рассуждали антисемиты о еврейской похоти, тем более целомудренной становилась еврейская литература. Она это и сама о себе понимала. Недаром Шолом-Алейхем в программном предисловии к «Стемпеню» доказывает, что еврейский роман — это совсем не то же самое, что роман европейский, то есть это роман, в котором жена не изменяет мужу, а страстный любовник не добивается своего. Даже прочитав, что бабелевский Беня Крик может «переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется довольна», мы понимаем: налетчик Беня — сверхчеловек, отрицающий «ветхий Израиль».
И вдруг как взбесились. Не просто секс, а распущенность, бесконечные интрижки, случайные связи, о чем все время талдычат такие разные символы еврейской Америки, как, с одной стороны, Башевис-Зингер, а с другой — Вуди Аллен. Но Филип Рот сказал о сексе нечто новое. Для него это не эксцесс человека, сорвавшегося с короткого поводка традиции, как у Башевиса, который в романе «Враги» изображает выходца из традиционного мира — польского еврея, живущего с двумя женщинами, встречающего свою первую и в панике бегущего от потенциальной четвертой. Герой Филипа Рота — ветеран сексуальной революции, чья чувственность была под запретом дома (вот она — последняя «скрепа» еврейской традиции), расцвела революционным махровым цветом в университетском кампусе и успела увянуть вместе с подступившей к обоим — герою и его автору — старостью. Жизнь плоти неизменно становится у Рота универсальной метафорой жизни духа. Василий Розанов был бы им доволен.
В уже упомянутом романе «Призрак уходит» и других своих поздних, очень грустных произведениях Филип Рот изображает кризис столь любимой им Америки. Это истории о нынешних мальчиках и девочках, которых все больше волнует интернет и все меньше — секс и Толстой. И это не старческое брюзжание, а разговор о том, что последний раз утопия гармонического взаимодействия индивидуума и общества, тела и духа, поманила в 1960-х, но затем — хвостиком вильнула и оставила стареющего писателя там, где оставляла до него слишком многих. У разбитого корыта.
6
У Филипа Рота есть еще одно достоинство, необходимое всякому большому писателю, — он умеет писать. Причем на всех уровнях построения романа: фабула, герои, слог, стиль. Всю жизнь он работал, как крупная американская автомобилестроительная корпорация: выдавал на-гора роман за романом марки «Рот», словно новые модели автомобилей марки «Крайслер» или «Форд». На крайслерах и фордах хорошо ездить по американским хайвеям, но и за пределами Штатов они кстати. Его романы — очень американские книги, они отмечены множеством американских наград, но и за пределами Штатов их любят. А переводят его на иностранные языки, кажется, больше, чем любого другого современного американского автора.
В чем секрет романов Рота? В занимательности, в ясности мысли, в точности формулировок — и в чем-то еще. В чем? Ну, кабы знать, всякий бы мог стать великим писателем… [1] Тут уместно напомнить, что евреи, еврейская культура, еврейская литература — сугубо диаспоральные феномены. Израиль прокламировал замену «еврея» на «израильтянина», успешно выполнил взятые на себя обязательства и в этом виде спорта — «быть евреем» — больше не участвует. Проживающие в Израиле обломки диаспоры — на то они и обломки — по большому счету к Израилю отношения не имеют. [2] Это не Ленин придумал, что Толстой — «зеркало», это было штампом. Например, Вяч. Иванов назвал Толстого «зеркалом, на мир направленным». Уверен, что такое опосредованное сравнение с Толстым понравилось бы Филипу Роту, который, как всякий интеллигентный американец, Толстого и читал, и чтил. Впрочем, Рот никогда не узнает об этом сравнении, потому что ему как атеисту загробного существования не полагается. [3] Обращает на себя внимание почти мгновенный перевод «Немезиды» на русский язык — уже в 2011-м. Постепенно Рот становился все популярней в России и все быстрей «приходил» к русскому читателю. |
  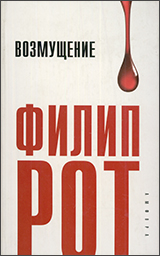 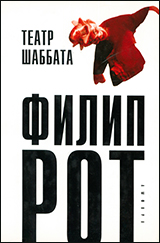     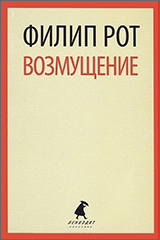    |