|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 133 / Апрель 2018 Рецензия
|
|
||||||||
1
«Денис Соболев — один из лучших современных русских писателей Израиля…» — начинаю я и задумываюсь. «Русских писателей Израиля» или «русскоязычных израильских писателей»? Что правильнее?
Попытки создать особую русско-израильскую литературу предпринимались еще в 1980-х и неизменно наталкивались на два фактора: невозможность уйти от общерусских влияний и отсутствие отдельной, собственной аудитории. Пробиться к ивритоязычному читателю не удавалось; русскоязычная израильская публика (к тому же очень сильно обновившаяся в 1990-е) предпочитала книги из Москвы и Ленинграда. В результате возобладала ориентация на читателя (и издателя) языковой метрополии. Израиль стал в первую очередь источником экзотического материала и (в лучшем случае) дополнительных культурных импульсов. Причем это относится к писателям самого разного уровня — от Михаила Генделева, Леонида Шваба, Александра Иличевского, Гали-Даны Зингер, Анны Горенко, Арье Ротмана до Марка Зайчика, Игоря Иртеньева, Дины Рубиной.
Знакомясь с романами Соболева «Иерусалим» и «Легенды горы Кармель», поневоле задаешься вопросом об их адресации — о воображаемой автором аудитории. И ответ на этот вопрос для двух книг — разный.
«Иерусалим» подчеркнуто рассчитан на читателя, у которого круг впечатлений и лексики аналогичен авторскому[1]. То есть на израильтянина — выходца из бывшего СССР. Но издан роман в России, и издатели в сносках старательно объясняют всё, относящееся к Израилю, евреям и иудаизму. Местами приходится комментировать едва ли не каждое слово (например, когда герой заходит в Меа-Шеарим и встречает там служку, который призывает его дополнить собой миньян — ведь это большая мицва). Что-то, однако, и не объясняют: например, в стилизованном отрывке из якобы средневековой еврейской рукописи упоминается «Иосиф Матитьягу, да будет забыто его имя». Не всякий догадается, что речь идет об Иосифе Флавии.
«Легенды горы Кармель» построены в этом смысле иначе[2]. Автор избегает реалий, непонятных «внешнему» по отношению к Израилю человеку, или же растолковывает их непосредственно в тексте. Он подробно излагает собственную, резко субъективную версию политической истории еврейского государства — как бы в расчете на неофита. Короче, он обращается скорее к читателю российскому.
«Иерусалим» увидел свет в ростовском издательстве «Феникс», редко выпускающем художественную литературу, и снабжен рекомендациями Рафаила Нудельмана, «автора бестселлера "Загадки, тайны и коды Библии"», Марка Амусина, «главного редактора журнала "Время искать" и Игоря Бяльского, «главного редактора "Иерусалимского журнала"». В контексте русскоязычного Израиля все трое — фигуры значимые, но для московской и петербургской аудитории едва ли авторитетные. В общем, такой способ презентации нельзя назвать особенно удачным — однако роман «прозвучал», да еще как: вошел в шорт-лист «Русского Букера». «Легенды горы Кармель» выпущены десятилетие спустя после «Иерусалима» уже издательством «Геликон Плюс», гораздо более известным, чем «Феникс». Правда, книга, по-видимому, долго ждала издателя: ее первоначальная версия («Четырнадцать легенд о Хайфе») появилась в сети еще в 2011-м.
В целом перед нами — типичный (причем далеко не худший) вариант развития событий для «сложного» современного русского автора. Соболев пишет слишком качественно и изысканно, чтобы издаваться массовыми тиражами в «Эксмо» или «АСТ». Но при серьезном разговоре о нынешней прозе на русском языке его книги не обойти. В том числе и потому, что он (один из немногих) сумел приблизиться к решению роковой — для нынешней прозы на русском языке — задачи: создание полноценной «большой формы» через малую. Оба его романа — своего рода циклы. «Иерусалим» — цикл из семи повестей, «Легенды горы Камель» — из четырнадцати рассказов. Но эти повести и рассказы образуют единство, срастаются в цельный текст.
Впрочем, это, конечно, не главное. Настоящий секрет прозы Соболева в другом.
2
Истоки этой прозы, казалось бы, очевидны. Лет тридцать-тридцать пять назад культовым писателем российской интеллигенции был Хорхе Луис Борхес. Поэтика его лаконичных рассказов, в которых парадоксально накладываются друг на друга мифологемы мировой культуры, переплетаются вечные сюжеты, несущие сложные метафизические смыслы, переживалась русскими читателями необыкновенно живо и казалась молодым авторам прекрасной питательной почвой для собственного творчества. Но у Борхеса интеллектуальные конструкции существуют в нерасторжимом единстве со свирепой жизненностью буэнос-айресских бандитских предместий. Не зря аргентинский классик зачитывался не только средневековыми фолиантами, но и, к примеру, «Одесскими рассказами» Бабеля. Уже у Кортасара, тоже большого любителя культурологических игр, эта жизненная плоть исчезла, подмененная привычной выморочностью интеллигентского быта. В девяностые годы подобные ходы вошли уже в массовую культуру — сначала в ее верхушечный слой. У Эко и Павича они одновременно и обескровились, и банализировались — чтобы в совсем уж облегченном виде опуститься в немудрящий мир Дэна Брауна и сочинителей фэнтези.
Именно поэтому «Иерусалим», первая повесть которого называется «Лакедем», открываешь с осторожностью. Исаак Лакедем — «псевдоним» Агасфера во французской традиции (есть, в частности, роман Дюма с таким названием). В повести Соболева антиквар Лакедем живет в современном Иерусалиме — живет и умирает, как будто опровергая своей смертью мистическую природу собственной личности. Но если Лакедемом назван человек конца XX столетия — то кто он? Вопрос остается без ответа. В тексте Соболева к тому же есть прямая отсылка к одному из рассказов Борхеса — «Бессмертный», хотя имя писателя не упоминается. Автор «Иерусалима» как будто сам провоцирует возможные упреки во вторичности.
Но сюжет накладывается на совсем другую историю — точнее, фрагмент истории, историю без истории, несколько страниц из жизни внутренне одинокого, тяготящегося бессмыслицей жизни и безлюбьем молодого жителя Иерусалима, репатрианта из России, конкретнее — из Ленинграда. Все тот же «интеллигентский быт»? Но в том-то и дело, что эмиграция/репатриация означает и известную психологическую (если не фактическую) деклассированность, и не случайно подруга героя, старательно (чтобы не отстать от московской моды) читающая Кибирова и Пелевина, выглядит несколько смешно. Сквозь условного «Трифонова» или «Беллоу» проступает подлинно чеховская тоска — очевидная даже в ритме фразы:
Хамсин кончился; подул ветер, сметая вдоль тротуаров остатки еды, мусор, обрывки объявлений, рекламных листков, полиэтиленовых пакетов; зашелестел пустыми пластмассовыми банками. В окнах горел свет; слышались крики, шум, звуки перебранки; пахло едой, кухней, отбросами, детьми. Было людно; но женщин было сравнительно мало; почти все несли сумки, катили тележки.
«Борхесятины» встречалось немало, но Борхес, наложенный на Чехова, — это необычно.
Каждая из частей «Иерусалима» построена на этом приеме. Мистический, сказочный, мифологический, метаисторический слой повествования врывается в повседневную жизнь героя, обнажая зыбкость и искусственность его человеческих связей. Но это вторжение, вопреки ожиданиям читателя, не выстраивает сюжет: две линии (а иногда и больше) развиваются параллельно, вторгаясь друг в друга, но иногда так до конца и не соединяясь. Например, в одной части линии такие: странная девочка, которую избрала дьяволица Лилит, беспорядочная жизнь иерусалимского программиста и средневековый текст о человеке, пересекшем реку Самбатион. В другой части ненаписанная книга про талмудического «отступника» рабби Элишу (с модернизирующей метафорой — духовный путь Элиши и его оппонентов, в том числе знаменитого рабби Акивы, описывается как альпинистское восхождение) пересекается с почти вульгарной «вампирской сагой». В третьей части появляется «рациональное» объяснение виде́ний и действий героя — постепенное погружение в безумие. В четвертой — компьютерная игра пересекается с предпринятым героем и заходящим в тупик конспирологическим «расследованием» убийства Ицхака Рабина. В пятой — жизнь самоуглубленного математика, романтически преданного равнодушной к нему приятельнице, как-то накладывается на историю о любви местечковой девушки к демону Ашмодею…
Причем, выстраивая все эти причудливые конструкции, Соболев не прибегает к защитной «постмодернистской» иронии. Он серьезен, даже когда пишет про вампиров, и к этой серьезности тоже надо привыкнуть. Даже в техническом отношении он серьезен и основателен. Можно сказать, что Соболев просто не боится и не стесняется «хорошо писать» в старомодном смысле слова.
Узкое каменное пространство улицы отступало во времени, вечерняя грусть наполнялась смыслами ушедшего мира. В некоторых окнах были приспущены жалюзи, и они светились ровными, желтыми или оранжевыми полосами; другие были открыты настежь, и было видно все, что происходит в тесных аквариумах комнат. Напротив меня девушка с длинными волосами собрала что-то со стола и отнесла на кухню, снова вернулась, походила по комнате, переставила вазочку, потом исчезла. Она всегда ложилась очень поздно, я часто наблюдал за ее черной фигуркой в желтом квадрате комнаты в час, а то и в два ночи; иногда она садилась у окна, и я думал про то, что было бы хорошо рассмотреть ее лицо.
Изысканные книжные сюжеты и «дикие» легенды, пришедшие из каких-то глубин галута, из полесской и галицийской глуши, воспоминания о мавританской Испании и о Хазарском каганате (о его гибели) — всё это врывается в жизнь героев и пронизывает ее, делая неравной себе. В конце все семь рассказчиков сходятся вместе на армейских сборах, чтобы вновь разойтись. Автор пытается соединить их истории — и вот здесь-то пафос становится чрезмерным, декларативное глубокомыслие хлещет через край:
Как мне кажется, каждый из нас, сознательно или на ощупь, добровольно, но часто и вынужденно толкаемый к свободе самой сущностью своего бытия, глубинной и непреодолимой непринадлежностью, пытался найти этот ускользающий образ бытия в мире, где утрачена смысловая основа существования, почти полностью прервана преемственность культурных традиций, где всевластные идеологии называют себя свободой, фантомы маскируются под природу и рациональность, а вера давно уже выродилась в фанатизм, сектантство или чистую орнаментальность.
Слава богу, во втором романе Соболева подобное уже не встречается.
3
Если в «Иерусалиме» бытовая жизнь героев оказывается пронизана мистическими и метафизическими токами, исходящими от Вечного города (или принесенными с собой его разнообразными обитателями), то исходная точка «Легенд горы Кармель» иная. Хайфа — город древний физически, но молодой по духу. В Хайфе нет собственного легендарного прошлого, и Денис Соболев воссоздает, реконструирует его — так же как в свое время художник Александр Окунь реконструировал никогда не существовавшую средневековую еврейскую живопись. Например: Хайфа была пиратским пристанищем? Значит, должны быть истории про пиратов. В хайфской крепости были черная и белая башни? Это рождает легенду об их строителе. Такой мифологии не было — но теперь она есть.
Прошлое Хайфы, как и любого старого города, многослойно. В ее истории присутствуют и античные, и арабские, и турецкие, и колониальные воспоминания. Но все легенды Соболева — в той или иной степени еврейские, потому что нынешнее население любой территории осваивает и присваивает прошлое. В собранных Ефимом Райзе народных сказках традиционные «пропповские» сюжеты перелицовываются на еврейский лад, приводятся в соответствие с канонами иудаизма и местечковым опытом. Так и у Соболева сакраментальная пиратская сага о капитане и его спрятанных сокровищах становится легендой о еврейском пирате, изгнаннике из Испании, чьи потонувшие богатства призваны помочь евреям вернуться в Палестину. Философская притча о художнике — это притча о еврейском художнике. Подлинные герои одной из сказок «Тысяча и одной ночи» — хайфские евреи Юсуф и Эстер. Сделавшись еврейскими, сказки не становятся, однако, внутренне благополучными, не приобретают дидактический уклон. Наоборот, провоцирующее, соблазнительное начало, присутствующее в них, лишь обостряется.
Отношения сказочного квазиисторического материала с современным в «Легендах горы Кармель» не совсем такие, как в «Иерусалиме». Лишь в первом рассказе безумие Юваля, пережившего психологическую травму на одной из арабо-израильских войн, накладывается на легенду про Соломона ибн Габироля, создавшего женщину-голема. В основном же Соболев во второй книге уже не нуждается в контрастном введении бытовых мотивов. Вымышленная реальность обретает выразительность сама по себе.
При всем разнообразии сюжетов, постепенно приближающихся к нам по временно́й шкале, они по большей части сводятся к одному. Это истории людей, не сумевших реализовать свою любовь, не исполнивших свои планы, не нашедших ответа на свои вопросы — и ставших городскими призраками. Когда дело доходит до наших дней, выясняется: эти призрачные существа из только что придуманных легенд затягивают в свой мир современных людей — скажем, простоватого строительного подрядчика и гуляку-программиста.
«Ты все еще неправильно задаешь вопрос», — ответила тень. «Хорошо, — продолжил Алекс, — я хочу узнать значение своего сна и значение снов вообще; я хочу узнать, что значит видеть сны, что значит быть сном. Я хочу узнать, что значит любить сны. Я хочу узнать, как могло так получиться, что сны оказались важнее фактов. Я хочу узнать, почему для меня мой сон и есть тот самый единственно важный факт, — он почувствовал, что задыхается, перевел дыхание и продолжил: — Психолог сказала мне, что это называется воображаемым; я хочу узнать, что значит быть воображаемым, что значит иметь воображение, что значит быть с воображаемым». Призрак расхохотался.
Таким же призраком может быть и «математик», который рассказывает несчастной девочке Лене, регулярно сбегающей от родителей-мещан в уличные компании, уже известную нам историю про хайфских пиратов. Да, сюжетный принцип в итоге тот же, что и в «Иерусалиме» (правда, всю мифологию мы практически сами вместе с автором прямо сейчас изобрели), но прощание с посюсторонним миром выглядит менее драматично — уж очень он убог. В «Легендах горы Кармель» Соболев не патетичен, а язвителен. Рассказ «Про Беньямина из Туделы и нашествие бабуинов» вызывает в памяти не только Борхеса («Сообщение Броуди»), но и Свифта:
…с этого дня она начала воспринимать все иначе. Все, что являлось нормальным для бабуинов, ей стало казаться естественным, само собой разумеющимся и даже в большинстве случаев единственно разумным. Отклонение же от нормы стада теперь представлялось ей своего рода уродством — впрочем, уродством, иногда достойным жалости. В глубине души она, конечно же, ощущала, что не вполне является урожденным бабуином, но обычно ей удавалось ускользать от этого понимания. Шерсть у нее так и не стала расти, но постепенно все научились ей это прощать и до конца ее жизни делали вид, что у нее просто короткий белесый мех, невидимый на солнце. Когда Бу-Бу думала о великодушии своего стада, оно трогало ее до слез. Впрочем, она была вознаграждена и еще в одном. Дети бабуина от нее не только выросли полноправными членами их стада, но и стали предками многих из тех, кого сегодня можно ошибочно принять за людей.
Так же язвителен он в описании прошлого и настоящего Государства Израиль. Есть мера беспощадности, которую можно позволить себе только по отношению к родному и любимому. Соболев беспощаден — особенно к политической элите, и «правой», и «левой». Чрезвычайно резким, в частности, выглядит изображение им «Большой алии» начала 1990-х:
...на некоторое — хотя и недолгое — время в Израиле появился новый класс крепостных. Чтобы узаконить их бесправие и с моральной точки зрения, свободная пресса наполнилась рассказами о том, что из ненавистного Советского Союза приехали бандиты и проститутки и лучшей участи они не заслуживают. <…> …По пыльным улицам маленьких полупустынных городков с тяжелыми клеенчатыми сумками стали бродить старики, пережившие Катастрофу, а им вслед улюлюкала толпа, считавшая себя истинными евреями. Однако без пищи духовной новые граждане не остались: из обещанного изобилия молока и меда изобильными оказались только пропагандистские брошюрки и газеты. В брошюрках, написанных на ломаном русском, раввины — из числа бывших комсомольских активистов — рассказывали о духовном превосходстве еврейского народа.
Именно эта язвительность, эта неподдельная ярость в соединении с чуть-чуть стилизованной романтической фантастикой и такой же стилизованной «изысканностью» Belle Époque, определяет характер второго романа.
4
Кроме романов, Соболев напечатал культурологически-публицистическую книгу «Евреи и Европа»[3]. Она может служить любопытным комментарием к его прозе. Так, «хазарские» страницы «Иерусалима» читаются по-другому, если знать, что автор — приверженец (хотя и с оговорками) теорий Артура Кёстлера о хазарских корнях ашкеназов:
…мою душу согревает мысль, что в нашей крови растворен не только затхлый воздух средневековых городов с их запахом гнили и тесноты, с их взаимной ненавистью и вечным страхом, но и прозрачное дыхание степи, в которую хазары уходили при первых признаках весны, оставляя свои города рабам и торговцам. Это совсем иной образ еврейского бытия… это образ… который будут искать многие европейские евреи в девятнадцатом и двадцатом веках. И, соответственно, его смысл находится не только на генеалогическом, но и на метафорическом уровне. Потому что, как всякая история, Хазария есть не более чем метафора для нашего бытия здесь.
Однако самая любопытная статья в книге — «Острова в Океане». Интересна она, впрочем, не сама по себе. Попытки найти некие общие черты у писателей еврейского происхождения, творивших на разных языка, в разных странах, в разное время, в разных поэтиках (чего сто́ит объединение Пауля Целана с «антисоветским соцреалистом» Василием Гроссманом!), раздражают и идеологически (что это за «генетический», примитивно этнический, чуть ли не расовый подход к культуре и к еврейству?), и методологически (произвольностью определений и примеров). И все же те черты, которые Соболев склонен считать «общееврейскими», существенны для понимания его собственного творчества.
Автор перечисляет такие черты, как «онтологическая ориентированность» (восприятие искусства как средства познания мира), сосредоточенность на теме поступка и насилия, особенное, обостренное восприятие времени. Затем — «антиметафизичность», что на языке Соболева означает следующее:
В еврейско-европейской традиции цельность мира распадается. Мир оказывается безнадежно противоречивым и необъяснимым; мироздание превращается в кафкианский лабиринт. Вечные метафизические истины исчезают. Вместе с ними оказывается под угрозой исчезновения и внятный смысл человеческой жизни, который только с их помощью и может быть сформулирован. Очень часто человек оказывается вынужден принять необъяснимость мира как данность.
Еще одна черта — «лингвистический скептицизм» (то есть «подозрительное отношение к глянцевой поверхности всевозможных "синтетических" языковых построений, всевозможных претензий на обладание полнотой истины»). Хотя вообще-то поэт, сказавший, что «мысль изреченная есть ложь», евреем отнюдь не был…
Что касается других признаков («индивидуализм», «отчуждение», «демифологизация языков власти») — то они с таким же точно успехом могут быть отнесены ко всей культуре XX века. Присущи они и Соболеву — просто как писателю-модернисту. Но вот еще одна важная черта: «деэстетизация опыта». И тут мы невольно оказываемся в тупике, ибо Соболев-то, на первый взгляд, как раз типичный писатель-эстет, во многом даже стилизатор, для которого характерно именно «упоение культурой, созданием новых форм и "миров"», а также любование «мирами», созданными культурой прошлого. Но, очевидно, писатель чувствует недостаточность этих целей. Сквозь культурные образы и знаки он стремится пробиться к подлинности человеческого существования, к универсальному бытийному опыту — во всей его необъяснимости, незавершенности, несказанности. [1] Соболев Д. Иерусалим: [Роман]. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 448 с. (Готика). [2] Соболев Д. Легенды горы Кармель: Четырнадцать историй о любви и времени. СПб.: Геликон Плюс, 2016. 248 с. [3] Соболев Д. Res Judaica. Евреи и Европа / Центр исследований истории и культуры восточноевроп. еврейства. Киев: Дух i Лiтера, 2007. 400 с.; Он же. Евреи и Европа. М.: Текст, 2008. 480 с. (Чейсовская коллекция). |
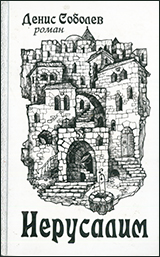    |


