|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 129 / Август 2017 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Марк Амусин. Гора и город сквозь призму мифа. Дружба народов, 2017, № 4
Отзыв на роман Дениса Соболева «Легенды горы Кармель» (СПб., 2016) начинается так:
Томас Манн когда-то говорил о своем «Иосифе и его братьях», что это роман не о евреях и не для евреев. О рецензируемой книге можно сказать: она не только об израильтянах, и уж тем более не только для израильтян, хотя действие ее разворачивается в израильском (мировом?) городе Хайфа и его окрестностях.
Манн, немец-христианин, обращавшийся к библейскому мифу, имел в виду, несомненно, другое. Нервное стремление рецензентов едва ли не любой книги еврейской/израильской тематики подчеркнуть, что «эта книга не только про евреев», бросается в глаза. А если «только»? Что, книга, написанная только про китайцев, заведомо никому, кроме китайцев, не интересна? Полагаю, что всякий художественный текст обращен ко всему человечеству, а интерес к нему зависит от качества…
Что ж, Соболев — писатель талантливый, а замысел у него амбициозный:
Соболев, уроженец Ленинграда/Петербурга, любит свой второй родной город с его причудливым рельефом, эклектичной архитектурой, разноплеменными обитателями (евреи, арабы, «русские», последователи бахаизма). И он задался благородно-безумной целью: приобщить Хайфу к содружеству локусов, окутанных дымкой литературного мифа, — первым в этом ряду стоит, конечно, Петербург. Точнее, он хочет актуализировать мифотворческий потенциал Хайфы, явить его читателям.
Судя по рецензии, современный израильский быт соединяется в «Легендах горы Кармель» с причудливыми историческими реминисценциями: тут и Ибн-Габироль, и средневековые пираты, изъясняющиеся на современной фене… Желание почитать возникает — если задача рецензента состояла в этом, то она выполнена.
Ефим Бершин. От Волги и до Галилейских вод. Стихи. Дружба народов, 2017, № 6
Московский поэт родом из Тирасполя. Ощущение, что в сравнении с предыдущими подборками автор (уже очень немолодой) вырос, сделал какой-то рывок. Появилась энергия, хорошее безумие, смесь страсти и страха:
Это снег. Это новый завет. Это неба разодранный кров. Из-под белого снега на снег проступает ленивая кровь.
По дороге, под топот и лай, где столбы из асфальта растут, к заповедной земле, за Синай, молодые собаки идут…
Одна только строчка вызывает улыбку: «я шел снегами Вечным русским Жидом». Из-за неправильного ударения выходит: поэт воображает себя классиком французской литературы.
Ефим Бершин. Я был один. Дружба народов, 2017, № 6
Эссе напечатано под рубрикой «Первые стихи», посвященной рассказам поэтов о начале своего творческого пути. Но в данном случае речь не столько о стихах, сколько о провинциальном детстве на рубеже 1950–1960-х (снятые бюсты Сталина полируют и превращают в Котовских — это ж Молдавия):
Ты еще спроси, не читал ли я Гомера. Или, к примеру, Блейка с Гейне. Как я мог их читать, если в доме отродясь не было ни одной книжки? Нет, одна, кажется, была. Про партизанский отряд. Но я ее не читал. Зачем мне книжка про партизанский отряд, если за окнами бегали живые партизаны из соседнего двора? Они прятались в развалинах старого барака, который после войны так и стоял — то ли разбомбленный, то ли взорванный. А, может, кто-то по пьяному делу устроил пожар, и бедный барак горел, как трижды горел городской театр — дважды во время войны и один раз после. Так вот эти партизаны с соседнего двора прятались в развалинах, а по вечерам выходили из укрытия и устраивали засады, пугая случайных прохожих. Но меня в этот партизанский отряд не брали по возрасту. Пришлось свой создавать…
Советская жизнь, настолько убогая и усредненная, что даже «национальный вопрос» не возникает. Или автор его на сей раз обходит?
Борис Хазанов. Хроника о Бутадее. Рассказ. Звезда, 2017, № 4
К Агриппе Неттесгеймскому, алхимику XVI века, приходит Агасфер. Агриппа отправляет его в будущее, чтобы Вечный Жид, «единственный из живущих на Земле, кто своими глазами видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нем», увидел второе пришествие Иисуса. Агасфер возвращается потрясенный: он видел евреев, идущих в газовую камеру, и Иисуса среди них. Аляповатая плакатность «иудеохристианской» притчи усиливается публицистическим послесловием:
Сведения о Катастрофе слишком поздно проникли в бывший Советский Союз, слишком скудно освещались в стране, где государственная цензура и народное предубеждение систематически отсекали все, что касалось евреев; самое слово «еврей», как Вы помните, стало почти нецензурным. В результате (но не только поэтому) Освенцим отсутствует в сознании интеллигенции, не говоря уже о простом народе. Похоже, что Освенцим отсутствует и в сознании Церкви, притязающей на роль духовного наставника общества, но никогда не протестовавшей против эксцессов юдофобства. Освенцим отсутствует в сознании наших писателей, не исключая, увы, самого знаменитого.
Похоже, что под «самым знаменитым» писателем Хазанов подразумевает покойного Солженицына. В оправдание автору можно вспомнить, что сам он 1928 года рождения и, как многие пожилые люди, продолжает, вероятно, жить в мире своей молодости.
Маргарита Пимченко. Рецензия на книгу Джонатана Уилсона «Марк Шагал». Звезда, 2017, № 4
И эта рецензия начинается так:
Серия «Чейсовская коллекция», в рамках которой выпущена эта книга… посвящена современной литературе по еврейской истории, культуре, искусству и философии. Поэтому можно заранее ожидать, что сюжет представленной биографии Шагала будет носить национальный характер. И легко себе представить: в сухом остатке здесь вообще окажется сводная хронологическая таблица с примечаниями «считал себя евреем»/«все считали его евреем» и т. п. — хотя смысловую наполненность книги, конечно, к этому свести ни в коем случае нельзя. Но это стоит учесть: если в вас не горит интерес к многогранному семитскому вопросу, текст Уилсона вначале может показаться несколько черствым — хотя потом вся жизнь художника, какой она была, конечно, берет верх и наполняет все.
Удивительно, что журнальные рецензенты никак не научатся воспринимать еврейскую культуру именно как национальную культуру, а не в контексте некоего «многогранного семитского вопроса». Никого ведь не удивляет, что о Матиссе пишут как о французском художнике?
Александр Рубашкин. Ее звали Маша. Звезда, 2017, № 6
Несколько запоздалый некролог М.Г.Рольникайте.
Писали о ней многие, но я не видел Машу с поднятой рукой: «Прошу слова!» Может быть, его нам не хватало. Но это с лихвой восполняли ее книги: от первой «Я должна рассказать» до последних, печатавшихся в «Звезде». И все же… Я не о том, что Маша при такой биографии могла бы не покидать места в президиумах писательских собраний. Тогда это была бы не Маша Рольникайте.
Что здесь можно сказать? Судьба Марии Григорьевны Рольникайте и роль ее свидетельства таковы, что странно мерить их меркой советской литературной жизни. В которой она, впрочем, участвовала — и с милой язвительностью описала иные эпизоды в своей последней книге «Дорога домой».
Александр Танков. Ниневия. Стихи. Звезда, 2017, № 6
Странная модернизированная фантазия на библейский сюжет, без однозначных аллегорий и плоских «привязок» к происходящему здесь и сейчас (хотя понятно, что речь идет в том числе и о российской истории). Стих — крепкий, гулкий, полный энергии:
Плачь, Иеремия! Прячь, Исайя, Злые звезды о семи лучах! Полночь ассирийская, косая Сажень у созвездия в плечах. Звездной ночью, как паленой водкой, Наполняй гремучее ведро, Жизнь свою сверяй с последней сводкой Ассирийского информбюро. Сердце бьет во тьму прямой наводкой. Страх и трепет в утреннем метро.
К сожалению, «Звезда», самый солидный и заслуженный журнал «культурной столицы», в последнее время редко балует интересными стихами. Цикл Танкова тем более привлекает внимание.
Евгений Беркович. Опальный академик и его защитники. Знамя, 2017, № 4
Речь, разумеется, о Сахарове. Среди прочего сообщаются вещи необычные и неудобные. Например:
Андрея Дмитриевича Сахарова приняли в действительные члены Академии наук СССР в 1953 году, когда ему исполнилось только тридцать два года. <…> Со стороны властей СССР это был своего рода аванс и желание видеть во главе атомной физики человека с русской фамилией. Академик В.Л.Гинзбург в интервью для журнала «Вестник» в 1997 году высказался откровенно:
«…В 53-м году меня, по предложению Игоря Евгеньевича Тамма, выбрали в членкоры. Он же предлагал избрать в членкоры и Андрея Дмитриевича, но его избрали сразу в академики. Почему? Им нужен был герой — русский. Евреев хватало: Харитон, Зельдович, ваш собеседник. Скажу, чтобы не было недоразумений: я Сахарова нисколько не ревную, не собираюсь бросать на него тень, но, говоря в историческом плане, его очень раздули по военной линии — из националистических соображений. Он — национальный герой, очень, правда, всех потом подведший».
В том, как послушно члены и члены-корреспонденты АН СССР поучаствовали в 1970-е годы в травле Сахарова, можно усмотреть в иных случаях не только страх за свое положение, но и обиду на подведшего всех героя, и раздражение «выскочкой». В защиту Сахарова из коллег по академии публично выступил лишь И.Р.Шафаревич (их добрые отношения, сохранявшиеся — при диаметральной противоположности взглядов — и в 1980-е, удивляли многих).
Но, как говорится, соль в нюансах. Все-таки руководители Академии наук (в отличие, скажем, от писательских начальников) определенной черты старались не переступать. И даже наоборот — стремились мягко подействовать на власти. Оказывается, например, знаменитая фраза П.Л.Капицы, сравнившего травлю Сахарова с исключением Эйнштейна из Прусской академии, была произнесена не на собрании, а в кабинете президента АН СССР Келдыша. Тот сам же ее и распространил: «По-видимому, Келдышу очень не хотелось браться за исполнение полученного сверху задания, и он с великим удовольствием рассказал о "прецеденте" своим ближайшим помощникам».
Даже преемник Келдыша Александров, не веривший в искренность Сахарова-правозащитника, все же сыграл роль ходатая перед Андроповым во время горьковской голодовки опального академика.
Алексей Голицын. Кто убил Кассиля? Дело антисоветской группы саратовских писателей. Знамя, 2017, № 6
Печальный эпилог к «Кондуиту и Швамбрании». «Оська», Иосиф Абрамович Кассиль, был арестован и расстрелян в 1937 году. Публикация, кстати, снимает обвинение с самого Льва Кассиля: ходили слухи, что он не пытался спасти брата. Пытался и активно. Причины же ареста таковы:
…в «Литературной газете» выходит рецензия… на третий номер «Литературного Саратова». Достается всем авторам альманаха, но в особенности — Кассилю. …Кассиль «напечатал халтурную и политически вредную повесть „Крутая ступень“». В ней «руководители парторганизации (секретари горкома) изображены карикатурно. Новый секретарь горкома Беляев дан в повести человеком, покрывающим деятельность троцкистов. <…> Студенты и преподаватели института показаны или обывателями (физик Шиловцев), или негодяями (студент Верещагин), или выполнителями троцкистских планов».
То есть — разоблачал других и доразоблачался? Но Кассиль-младший являлся, судя по всему, бухаринцем, замаскированным правым уклонистом, искренне не любившим троцкистов, но со своей позиции, — это и предопределило его судьбу. Ответить же на вопрос о доносчике можно лишь по косвенным данным. В областных архивах ФСБ, в делах, которые выдаются исследователям, соответствующие страницы плотно заклеены. Это приводит лишь к тому, что подозрения падают на невинных.
Борис Заборов. То, что нельзя забыть. Биографическое повествование. Знамя, 2017, № 6
Очередная глава мемуаров художника. Повествование плавает — тут и умерший в детстве брат, и то, как трудно выпускали на работу в ГДР, и Василь Быков, и Эдуард Лимонов. Но начинается все с убийства Михоэлса.
А дальше:
Неожиданно проявилось в памяти время, когда в нашей квартире работали военнопленные немцы. Их было двое. Они делали ремонт и украшали потолки лепными гипсовыми розетками. Мама разговаривала с ними на идише. Они хорошо понимали друг друга. Мама приглашала немцев к столу, кормила обедом. Они ели с аппетитом и благодарно улыбались. Уходя после работы, норовили поцеловать фрау маме ручку. Облик одного из них полностью обесцветился в памяти. Второй, много старше, высокий, с острым, подвижным, как гильотина, кадыком на худой гусиной шее запомнился хорошо. Он показывал маме маленькие фотокарточки своей семьи, и я видел слезы на маминых глазах. Мамины слезы меня тревожили, я пристально наблюдал издалека за немцем и был готов в любую секунду броситься на мамину защиту. Проходя мимо, высокий худой норовил погладить меня по голове. Я резко отступал и смотрел на него сурово, как на фашиста. Мамины родители, четыре сестры и брат Яков были удушены в фашистских газовых камерах.
Сама мама относилась к пленным немцам иначе, потому что у нее были свои воспоминания — она их записала:
…в 1939 году немцы заняли Польшу во второй раз. Я к тому времени была уже в Советском Союзе. И вот какое совпадение: как и в первую мировую войну, в дом моих родителей приходили трое немецких солдат, и они буквально охраняли дом и родных, не давали другим грабить и издеваться, все время поддерживали моих родителей и рассказывали про Гитлера, что он задумал уничтожить всех евреев. Они уговаривали моих родителей не оставаться в городе ни одного дня. <…> И во вторую мировую войну были благородные немцы.
Александр Ласкин. Мой друг Трумпельдор. Документальный роман. Нева, 2017, № 4
Роман об Иосифе Трумпельдоре, написанный как воспоминания некоего друга главного героя.
С одной стороны, выбор такой формы понятен. Автору не все одинаково интересно в жизни героя. Русско-японская война — интересна, сионизм — гораздо меньше. Книга, написанная «под маской», позволяет избежать упреков. Можно ли в жизнеописании Трумпельдора не упомянуть Жаботинского? Можно — если допустить, что псевдомемуарист его не знал.
С другой стороны, вечная беда любых беллетризованных биографий — невозможность разграничить документально засвидетельствованную правду и художественный вымысел. Вот это, например, было?
В это время Ростов стал таким же городом, как прочие. Периодически его сотрясали еврейские погромы. Чаще всего люди, устраивающие беспорядки, косят под обывателей. Мол, гуляли по городу, а тут видим: в ход идут железные прутья. У нас тоже руки зачесались. Мы вытащили палки из забора — и двинулись на врага. На сей раз это была не толпа случайных людей, а едва ли не армия. Передвигались они голова к голове. Ну и действовали сообща. Увидели подушку — пустили пух. Потом заинтересовались талесом. Бросили его в лужу, а вместе с ним и владельца. Так, расшвыривая и растаптывая, подошли к Еврейской больнице. Удивились названию: отчего это у них все свое? Даже болеют они отдельно от прочих! Вот погромщики стоят у ворот. Грозятся войти. Говорят что-то вроде: давайте решим вопрос кардинально. Тех, кому не помогают лекарства, приведем в чувство с помощью палок. Тут на крыльцо выходит Вольф. Призывает к тишине. Впрочем, погромщики и так замолчали. На их лицах читается: это кто такой? Почему вместе со всеми не ожидает расправы? — Как отличить евреев от неевреев? — сказал Трумпельдор. — Хотя наша больница Еврейская, но лечатся в ней все. Еще к нам приходят бедные. Куда им податься, если вы все разгромите?
Доверия сцена не вызывает. Обыденный факт существования еврейских больниц даже у погромщиков не мог вызвать удивления.
Еще пример:
Как-то перед боем командир нас построил. Решил произнести нечто духоподъемное. Вдруг после речи мы воодушевимся и с еще большей готовностью ляжем под пули. Начал тихо, а потом распалился. Он пытался взбодрить не только нас, но и себя. Ведь ему тоже было не по себе. Зудела мысль о поражении, и хотелось ее перекричать. «Разве можем мы не победить! — орал он. — Ведь жидов в нашем полку нет». До этого мой друг слушал спокойно, а тут сделал шаг вперед. Показал, что стоим мы плотно, но каждый существует по отдельности. Вот, к примеру, он. Раз коснулись этой темы, то как ему не высказаться? «Кажется, вы упомянули меня и моих товарищей? — сказал Трумпельдор. — Зря беспокоитесь. Сражаемся мы не хуже других».
А это что? Если писательская фантазия (похоже на то), так не очень удачная, апеллирующая к стереотипам.
Есть просто мелочи, свидетельствующие о недостаточном знании исторического контекста. Например, не говорили в 1900-е годы «идиш» (тем более царские чиновники) — язык этот именовался тогда «жаргоном» или «разговорно-еврейским». А вот в употреблении слова «венчание» применительно к еврейскому религиозному браку не было ничего особенного — общепринятый термин той эпохи. И, к сожалению, такие мелочи — почти на каждой странице.
Евгений Беркович. Альберт Эйнштейн на перепутье. Великий физик о Германии и России. Нева, 2017, № 4
Статья интересная, но местами почти текстуально совпадающая с работой того же автора в третьем номере «Нового мира». Все же так поступать не принято…
Пожалуй, в том варианте, который напечатан в «Неве», исследователь в большей мере делает акцент на ошибках Эйнштейна, недостаточно жестко осуждавшего сталинский режим:
В его круге общения было немало советских людей и немецких коммунистов, которые по своей инициативе или по заданию соответствующих органов оправдывали действия Сталина. И ученый, независимый от чужого мнения и уверенный в себе в вопросах физики, в области политики легко поверил их доводам.
Олег Юрьев. Петербургские кладбища. Новое литературное обозрение, 2017, № 3(145)
В новом поэтическом цикле Юрьева речь идет о разных кладбищах — например, о Волковом, где могилы друзей: режиссера Бориса Понизовского, поэта Елены Шварц… Да и не о кладбищах только — а о чем еще? (Юрьев однажды сказал: стихотворение пишут, чтобы узнать, о чем оно.)
Все затупляется: воздух звук Снег уходящий в одно из двух Поезд oскальзывающийся во мглу На угле на углу
Одно стихотворение называется «Еврейское кладбище в Петербурге». Стихотворение с таким заглавием у Юрьева уже было — тридцать лет назад. Оба — и то, давнее, и это — не о кладбище, в сущности, а о семейной могиле, о «квадратном метре в искривленной ограде». То — твердое, жесткое, как обреченная присяга на верность. Это — совсем иное:
Над нашею могилою Хромая бабочка летит, И крутится, и мучится, И падает, и спит.
Лежи-дрожи, двурогая, На прадедовской плите, Как стрекозка та убогая У Вольфа на плече…
Это — аллюзия к стихотворению еще одного мертвого друга, поэта Сергея Вольфа. А под конец — лермонтовская строка:
Здесь в белое небо впрыснуто Александровской фермы молоко, И плачется, и дышится, И так легко, легко.
То, что казалось символом внутреннего противостояния окружающему миру (от этой хромой бабочки до «отменных берез» на могилах), примиряется с ним, почти в нем растворяется. Источником или средством этого примирения оказывается русская поэзия.
Подготовил Валерий Шубинский
|
    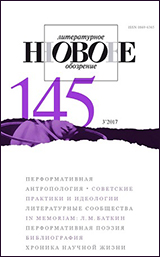 |


