|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 123 / Август 2016 In memoriam
|
|
||||||||
|
Эли Визеля я видел дважды. Во второй раз — когда он посетил Петербург в 1997-м. А в первый — чуть раньше, на книжной ярмарке в Будапеште. Тогда я не пошел на его выступление: оно проходило на венгерском языке, который для Визеля, уроженца Сигета, городка на севере Румынии, был одним из родных — наряду с идишем и, вероятно, румынским.
Эли Визель (1928–2016)
Но ни венгерским, ни румынским Визель как писатель никогда не пользовался. И на иврите он, гражданин Израиля, писал, кажется, лишь газетные корреспонденции. А на идише создал всего одну книгу, первую, «Un di velt hot geshvign» («И мир молчал»), которая стала знаменитой во французской версии — под названием «La Nuit» («Ночь»). После этого Визель к маме-лошн не возвращался. Работал исключительно на больших мировых языках — французском и, в меньшей степени и позже, английском. Стремление донести таким образом свое творчество до максимально широкой аудитории? Что ж, это довольно распространенная судьба для писателей XX века, выбравшихся из восточно- и южноевропейской «глуши»: Ионеско, Канетти, Кундера…
В случае Визеля это еще и стремление донести свои произведения — подчеркнуто и исключительно еврейские по материалу — до не только еврейской аудитории. И здесь он не исключение. Вспомним хотя бы Бабеля, пробовавшего, между прочим, писать и по-французски.
Почему важно было донести до нееврейской аудитории «Ночь»? Еще одно свидетельство о том, как уничтожали евреев, а мир молчал, — до этого молчащего мира? Нет, не еще одно свидетельство. В 1950-е годы избытка человеческих документов, связанных с Холокостом, не существовало — при огромном количестве живых носителей страшной памяти. Писателя Франсуа Мориака, французского классика, делившегося с молодым израильским журналистом Эли Визелем воспоминаниями об увиденных на Аустерлицком вокзале в дни оккупации вагонах с детьми, поразило, когда его собеседник сказал: «Я был одним из этих детей». Не в буквальном смысле (Визель, конечно, попал в концлагерь не из Парижа) — речь шла о том, что и он был еврейским ребенком, прошедшим через нацистский ад.
В чем уникальность его свидетельства? О чем говорит он нам? О будничности зла? Мы знаем об этом и из других источников. О том, что узники становятся не лучше палачей (в повести «Ночь» отец героя-рассказчика погибает не в газовой камере — в Бухенвальде его, больного дизентерией, забили, затравили соседи по бараку)? И это мы знаем, и не только из воспоминаний о Холокосте…
Возможно, своеобразие его повествования — в описании лагерного существования как страшной игры без выигрыша. Не отдал ботинки за назначение на легкую работу, пожалел — так их потом отняли даром; увернулся, когда лагерная администрация вырывала у узников золотые коронки, — в итоге твоя коронка досталась капо. Выигрыш возможен один — жизнь. А дальше вопрос встает так: как быть тем, очень немногим, кому выпал «выигрышный билет»? Как жить тем, кто вышел из ночи? Такой вопрос стоял перед тысячами бывших узников — совсем еще молодых людей, прошедших через неназываемое. Об этом — извне, со стороны — писали и Башевис-Зингер, и Сол Беллоу. Визель писал об этом опыте изнутри. Этому опыту посвящена большая часть его книг.
Прежде всего, это «Рассвет» и «День» (в другом переводе — «Несчастный случай»), которые вместе с «Ночью» составляют своего рода трилогию, хотя сюжетной связи между повестями нет. Герои «Рассвета» и «Дня» — именно выжившие. При том — очень разные люди: еврейский террорист из Палестины (Израиль еще не провозглашен) и нью-йоркский журналист. Во втором случае коллизия традиционна и понятна: человек, который после всех испытаний не может жить «нормальной жизнью»; женщина, пытающаяся спасти его своей любовью; несчастный случай на улице, заставляющий героя заново взглянуть на собственное прошлое и собственное настоящее… Всё совсем не так безнадежно, как во многих других книгах на эту тему. В «Рассвете» сюжет шокирующий: молодой еврей, прошедший концлагерь, из жертвы становится убийцей. Убийцей ради высокой цели, по приказу старших, но убийцей, причем — невинного и симпатичного человека, заложника. Речь о реальном эпизоде того периода борьбы за создание Израиля, вспоминать о котором жителям страны, оказавшейся на переднем крае войны с мировым терроризмом, сейчас не всегда комфортно… Но это было, это тоже часть еврейской истории XX века.
А кроме того, это повод поговорить о многом — о пограничных ситуациях, о поисках Бога, об экзистенциальном одиночестве… Да, Визель немыслим вне контекста европейской экзистенциалистской философии. Имена Шестова и Бердяева, Сартра и Камю, Бубера и Розенцвейга практически не упоминаются на страницах его книг, но вне этой традиции творчество Визеля понятно не до конца.
Многословные философские рассуждения можно встретить в любом из его произведений:
Страдание пробуждает в человеке все самое подлое и низкое. Когда страдание доходит до определенной черты, человек становится скотом: он продает свою душу, и больше того — душу ближнего, за кусок хлеба, за минуту тепла, за секунду забвения и сна. Святые — это те, кто умирает до наступления конца. А те, кто доживают свою судьбу до конца, больше не решаются смотреть в зеркало из страха увидеть там свою истинную сущность… («День»)
Русский читатель встречал подобные мысли (полемические по отношению к идеям Достоевского — его Визель как раз вспоминает часто) у другого писателя — Варлама Шаламова.
Но Шаламов, прошедший через ад, был мастером лаконичного самодостаточного слова, передающего непосредственный, потрясающий своей достоверностью опыт, из которого, как вода из тряпки, «выжато» всё лишнее — все рассуждения, метафоры, сантименты. Визель — писатель прямо противоположного склада. Ему важно порассуждать, важно многословно и патетически выразить чувства. В его книгах (кроме первой) не так много подлинного житейского и психологического опыта, но вдоволь емких, многозначительных метафор.
Иногда — удачных. Например, в «Рассвете», едва ли не самом модернистском по технике из написанных им текстов (после, пожалуй, «Иерусалимского нищего»). Героя, Элишу, повсюду сопровождают образы его прошлого — мальчик, нищий, — которые исчезают, когда он делает свой роковой выстрел.
Кого же он убивает? Капитана Досона или…
Я взглянул на этот обрывок ночи, и меня охватил ужас. У обрывка было лицо. Я посмотрел на него и понял причину своего ужаса. Лицо было моим.
Несомненно, и немота Гриши, ставшего «рупором» своего мертвого отца, поэта Пальтиеля Коссовера («Завещание убитого еврейского поэта»), и профессия Гамлиэля, героя «Времени неприкаянных» («литературный негр»), — все это тоже метафоры. Метафоры невозможности адекватно выразить трагический опыт — не только и не обязательно опыт Холокоста:
Молчание воздействует на чувства и нервы, оно выводит их из строя. Опаляет воображение, сжигая образы, ослепляет душу, погружая ее в ночь и смерть. Философы заблуждаются: убивает не слово, а молчание. Оно умерщвляет душевный порыв и страсть, само желание и воспоминание о нем, поглощает все в человеке, воцаряется безраздельно, превращая его в своего раба. Ибо раб молчания — уже не человек («Завещание убитого еврейского поэта»).
И герой «Иерусалимского нищего» Давид, теряющий свою идентичность и свое достоинство под грузом воспоминаний («…настоящий я остался там, в царстве ночи, в плену умерших»), человек, которого не может по-настоящему пробудить к жизни даже участие в победной Шестидневной войне, — это тоже метафора, в данном случае чрезвычайно сложная: слишком много у героя лиц и образов, слишком запутан его рассказ…
Как многие экзистенциалисты, Визель одержим темой безумия. Образ человека из далекого детства, сумасшедшего Мойше, проходит через его книги («Ночь», «Город Удачи», «Легенды нашего времени»):
Мойше — я говорю о подлинном Мойше, который прячется под личиной сумасшедшего, — великий человек. Он видит далеко. Он видит миры, недоступные для нас. Его безумие — только ширма, устроенная, чтобы уберечь нас: да, нас. Нам опасно увидеть то, что видят налитые кровью глаза Мойше («Город Удачи»).
Безумец первым приносит жителям города весть о надвигающейся Катастрофе — весть, которой человек в здравом уме не в силах поверить. И лишь глазам безумца может открыться тайный смысл происходящего, здравым умом отвергаемый.
Визель — писатель очень серьезный. Слово это имеет два смысла. «Серьезный писатель» — это значит и «крупный», «значительный». Но, скажем, Рабле и Свифт, Гоголь и Шолом-Алейхем, Гашек и Хармс были великими писателями, обладая при том глубоким чувством смешного. А Визель… Он не смеется, не шутит, не улыбается. Но это не упрек: Кафка — тоже не шутник. Как, пожалуй, и Хорхе Луис Борхес, чье влияние чувствуется во многих произведениях Визеля, особенно в коротких рассказах (не случайно Умберто Эко наделил именем и чертами биографии Борхеса антигероя романа «Имя розы» — книжника, ненавидящего смеховую культуру).
Отношение Визеля к смеху — почтительное и даже немного пугливое. Как к какой-то жизненной технике, которой он сам не владеет:
Когда франкисты нас схватили, мы сумели сбежать в первую же ночь. Охранник услышал, как мы смеемся, и захотел узнать, что это на нас нашло. А мы сразу присмирели. Он подошел поближе и сам начал смеяться. И так хохотал, что уже ничего не замечал. Тут мы и набросились. Разоружили, связали, сунули в рот кляп. И все это смеясь. Но он уже не смеялся («Время неприкаянных»).
Однако если говорить о недостатках Визеля-писателя, то дело, видимо, не в «серьезности», дело в другом. Характерный пример — «Завещание убитого еврейского поэта» (в раннем переводе просто «Завет»), наиболее слабый из его романов, доступных русскому читателю. Конечно, и сама задача, поставленная перед собой автором, оказалась непростой: описать жизнь вымышленного поэта, проведшего молодость в Европе, прошедшего гражданскую войну в Испании, попавшего в Советский Союз и погибшего во время сталинского антисемитского террора начала 1950-х. Значительная часть действия происходит в СССР. Визель искренне старается — и ему это почти удается — избежать «развесистой клюквы», хотя без схематизма, разумеется, тоже не обходится. Но и герой, что гораздо хуже, не выглядит живым (в отличие от протагонистов «Рассвета» и «Времени неприкаянных»). Почему? Он — еврей из традиционной среды, коммунист (впоследствии разочаровывающийся в коммунистических идеях и признающий правоту отцов) и — поэт. И вот этими тремя фактами (еврей, коммунист, поэт) его характеристика совершенно исчерпывается. Ну, еще он — мужчина, любящий разных женщин (если с юмором у Визеля неважно, то эротические переживания он описывает умело). Чрезмерное обобщение, стремление сделать из сложной реальности простенькую притчу, не оставляет места конкретным деталям.
C писательскими особенностями Визеля связаны и его популяризаторские наклонности. Он стремится раскрыть еврейскую традицию, в первую очередь хасидизм, современному секулярному читателю (в том числе и нееврейскому), делая акцент на том, что близко человеку, воспитанному на экзистенциализме. Ну а из хасидских цадиков Визелю близки мятежный рабби Мендл из Коцка, новый Иов, бросивший вызов Творцу, рабби Нахман из Брацлава, вероучитель с душой мятущегося поэта, и странная пара братьев — ученый и надменный рабби Элимелех, простодушный и смиренный рабби Зуся… Так или иначе, «Рассыпанные искры» Визеля — книга интересная. Такая же интересная, как написанные несколько раньше знаменитые работы Бубера и Шолема, — и еще более модернизирующая материал. Но это, видимо, и являлось авторской задачей.
О чем и как писать человеку, юным прошедшему через ночь? Визель дал один из вариантов ответа на этот вопрос. Лично ему, похоже, вполне удалось то, что тщетно пытаются сделать многие из его героев, — восстановить свою цельность, органично вписаться в более спокойный мир второй половины XX века. Как общественный деятель он приложил немало усилий, чтобы победить обрывки ночи, чтобы ее возвращение стало невозможным. Но это — тема отдельного и долгого разговора. Наша тема — литература.
Валерий Шубинский
Библиография:
Визель Э. Легенды нашего времени / Пер. с англ. Р.Зерновой. – Иерусалим: Б-ка-Алия, 1982. – 373 с. – (Б-ка-Алия; Т. 94). – То же. – 1990. – Содерж.: Легенды нашего времени; Иерусалимский нищий.
Визель Э. Завет: Роман / Пер. Н.Сонина. – Tenafly, N.J.: Эрмитаж, 1987. – 261 с.
Визель Э. Рассыпанные искры / Пер. с англ. В.Глинера, А.Окуня; Ил. А.Окуня. – Иерусалим: Тарбут, Кн. магазин «Малер», 1987. – 208 с.: ил.
Визель Э. Ночь; Рассвет; Несчастный случай: Три повести / Предисл. Ф.Мориака; Пер. с англ. В.Биркана; Под ред. Е.Бауха. – [Иерусалим]: Яир, 1989. – 279 с.
Визель Э. Ночь; Рассвет; День: Трилогия / Пер. с фр. О.Боровой; Послесл. С.Лёзова. – М.: Олимп, ППП, 1993. – 256 с. – (My best: Книги рус. ПЕН-клуба; Вып. 1; Кн. 3). 50 000 экз.
Визель Э. Город Удачи: Роман / Пер. с фр. и примеч. О.Боровой // Октябрь. – 1995. – № 5. – С. 82–159.
Визель Э. Рассыпанные искры / Пер. с англ. В.Глинера, А.Окуня. – Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 1999. – 240 с. – То же. – 2000. – 1500 экз.
Благая весть / Сост. [и предисл.] Г.С.Померанца. – М.–СПб.: Университет. книга, 2000. – 223 с. – (Антол. выстаивания и преображения). – Из содерж.: Визель Э. Ночь: Повесть / Пер. с фр. О.Боровой.
Визель Э. Следующее поколение / Пер. с англ. А.Яковлева; Предисл. Г.Чистякова. – М.: Текст; Журн. «Дружба народов», 2001. – 192 с. 3600 экз.
Визель Э. Время неприкаянных: Роман / Пер. с фр. Е.Мурашкинцевой. – М.: Текст, 2005. – 272 с. – (Евр. книга). 3000 экз.
Визель Э. Завещание убитого еврейского поэта: Роман / Пер. с фр. И.Васюченко, Г.Зингера. – М.: Текст, Книжники, 2012. – 512 с. – (Проза евр. жизни). 3000 экз.
Визель Э. Рассыпанные искры / Пер. с англ. А.Окуня. – Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2015. – 288 с. – (Верх. полка Гешарим: Лучшие кн. изд-ва).
|
   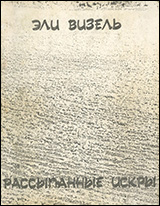 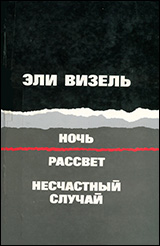  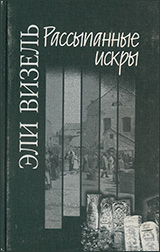      |



