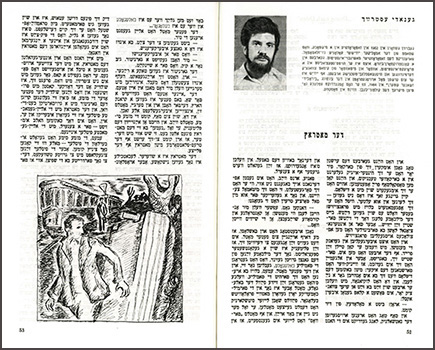|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 123 / Август 2016 Воспоминания
Воспоминания по случаю 30-летия первого молодежного номера московского еврейского журнала |
|
||||||||
|
Я не отношу себя к героическим отказникам. Так уж получилось, что период ожидания выездной визы, а затем и «отказа», прошел у меня не так сложно, как у многих других. Переживаниями был наполнен предшествовавший этому периоду моей жизни этап «подачи», закончившийся 30 октября 1979 года походом в ОВИР Советского района г. Москвы. Вежливый молодой человек в штатском проверил наши — мои и жены — документы: согласие родителей, исключение из комсомола, прочие справки. Собрать их оказалось непросто. Особенно досталось мне в проектном институте, где я работал руководителем группы. Допытывались: почему решил эмигрировать? Я что-то отвечал, хотя причина заключалась, как сейчас думаю, в одном: стало противно жить в среде, где постоянный обман густо замешивался цинизмом. И еврейский «стеклянный потолок» давил. К тому же немало друзей уже сидели на чемоданах или собирались на них сесть.
Начальство очень хотело, чтобы я уволился. Но я решил сопротивляться, даже угрожал судом, и меня через какое-то время просто оставили в покое. Не потому, что сочли очень сильным или незаменимым — хотя автоматизированная система, над которой наш отдел работал (и которую никогда не внедрил), в большой степени вышла именно из моей головы. Но не это было главным. Просто народ подобрался порядочный. Большинство коллег, даже те, кто «по долгу службы» трепали мне нервы, оказались людьми именно такой категории. Они сделали вполне терпимым мое пребывание в «отказе», выданном по весомо сформулированной причине: «выезд нецелесообразен». Так или иначе, я продолжал получать зарплату и премии, а через несколько лет даже пошел вверх по карьерной лестнице.
Не все, конечно, было безоблачным. Кое-кто остерегался со мной общаться. Желудок начал сбоить — возможно, от нервотрепки… Приехав этим летом на научную конференцию в Москву, где нас поселили в гостинице рядом с крытым стадионом у станции метро «Проспект Мира», я сразу вспомнил, как меня, исключенного из комсомола, послали на месяц в комсомольский отряд — убирать мусор на строительстве этого олимпийского объекта. Кстати, в конце 1970-х и мы, и многие вокруг нас подавали документы в наивной надежде, что предстоящая олимпиада упростит отъезд. Но вскоре началась афганская эпопея…
После «подачи» жизнь вообще резко изменилась. Появилось ощущение свободы. От отказника уже никто не ожидал каких-то политически правильных высказываний. Интерес к работе — незаметно для окружающих, но заметно для меня самого — угас. На смену прежним интересам пришли сюжеты еврейской истории и, главное, идиш. Он не только скрасил и наполнил содержанием годы «отказа», но и задал совсем новую траекторию моей судьбы. Нельзя сказать, что интерес к нему был у меня сугубо лингвистическим — хотя позже мне довелось составить еврейско-русский словарь, а затем, уже в Оксфорде, я защитил социолингвистическую диссертацию об идише в СССР. Идиш выступал окном в мир культуры, которая иначе осталась бы для меня недоступной. Мое знание языка тоже углублялось, притом что осваивал я его примерно так, как, скажем, русскоязычный школьник осваивает родную речь на уроках русского языка и литературы.
Я ведь вырос в не совсем обычной семье. Отец до войны заведовал отделом народного образования в Новозлатопольском еврейском национальном районе, куда его в 1931 году, после окончания в Житомире еврейского факультета Волынского пединститута, послали преподавать историю. Мама училась у него в местном сельскохозяйственном техникуме. Всю войну отец прошел политработником в действующей армии, потом еще полтора года служил в Германии. Еврейские национальные районы, существовавшие в 1920–1930-е годы на Украине и в Крыму, после войны не восстановили — в том числе и Новозлатопольский. У меня был шанс родиться в Биробиджане, так как родители подумывали туда переехать. Но не переехали — то ли послевоенная кампания по переселению евреев на Дальний Восток быстро закончилась, то ли они просто передумали.
Родился я в Запорожье, где осели многие из переживших войну новозлатопольцев. Вырос — на главной городской улице, проспекте Ленина (примерно полгода тому назад он стал Соборным), в трехкомнатной квартире, которую отец получил в одном из двух первых в Запорожье высотных домов — восьмиэтажных, с лифтом и мусоропроводом! Квартира эта на седьмом этаже — или на «седьмом небе» («афн зибетн гимл»), как у нас шутили, — походила на теремок из известной сказки. Одну из комнат занимали мамины родители. Другую — семья дяди Миши, единственного из пяти братьев и сестер отца, кто пережил войну. Дядя Миша служил в армии с незапамятных времен, командовал танковым полком в легендарной Кантемировской дивизии и в июне 1945-го участвовал в Параде Победы, но после демобилизации попросился в папин теремок — всей своей семьей из четырех человек.
Дом с лифтом и мусоропроводом. Запорожье. 2011
Дед был набожным евреем, сыном раввина. Он ходил куда-то молиться, втихаря подрабатывал шойхетом — резал птицу в нашей ванной — и, к ужасу моих родителей, время от времени повторял: «Цвей газлоним — Гитлер ун Сталин!» («Два бандита — Гитлер и Сталин!»). А через пару лет после смерти бабушки явился в домоуправление и сделал заявление, что ему просто невмоготу жить с коммунистами. Там это восприняли как маразматический юмор. Но в семье знали: это — не юмор, это — крик души деда Ерухема.
Все в нашей семье, включая несгибаемого коммуниста дядю Мишу и его бесхозяйственную жену тетю Маню, а также приходившие на «седьмое небо» гости, говорили обычно по-еврейски. Многие, включая мою маму, освоили русский довольно поверхностно. Годы спустя мама кормила из ложечки нашу дочь, приговаривая: «Глотай, не держи в рот». Запомнилась фраза маминой младшей сестры: «Где вы сохнете белье?» — точная калька с идиша: «Ву трикнт ир грет?» У тети Хволес («в миру» ее звали Люсей) из-за языка возникали совсем не смешные проблемы по службе — она ведь работала в детском саду и должна была проводить там занятия по развитию речи. А потом тетя Хволес уехала в Израиль и присылала оттуда письма на правильном идише образцовой выпускницы новозлатопольской еврейской десятилетки. Хотя мама не работала, меня перед школой на два года отдали в детский сад — чтобы привить нормальный русский язык.
В 1961 году у нас провел несколько часов еврейский писатель Хаим Меламуд. Побывал он и у Матвея Бердышева, мужа тети Сони (Шейндл), еще одной маминой сестры. Мне дядя Мотя запомнился веселым, но очень больным человеком. А в молодости это был бравый наездник, победивший донских казаков в соревновании, описание или просто упоминание которого можно найти в разных литературных источниках, включая книгу Лиона Фейхтвангера «Москва 1937»[1]. До войны Меламуд жил в Новозлатополе, ушел оттуда на войну в один день с отцом — всего через месяц после ее начала, а впоследствии поселился в Черновцах. Этот бывший австро-венгерский, а затем румынский город стал во второй половине 1940-х годов важным центром советской еврейской культуры.
Меламуд привез важную весть: в Москве вскоре начнет выходить еврейский журнал «Советиш геймланд». Позже я узнал, что это название — по-русски «Советская родина» — подчеркивало преемственность с предыдущими московскими еврейскими периодическими изданиями: довоенным альманахом «Советиш» и послевоенным «Геймланд». Запомнилось, как родители держали в руках первый номер журнала. Впервые за многие годы они получили доступ к печатному слову на родном языке. Вся их библиотека погибла в войну — включая рукопись неизданной книги моего прадеда-раввина (сейчас у меня в компьютере хранятся электронные копии его трудов, напечатанных до революции в Полтаве и Вильне). Поначалу родителям даже показалось странным — «моднэ» — читать по-еврейски, тем более что журнал совершил дерзкую «контрреволюцию» в орфографии, вернув пять конечных согласных, которые советские реформаторы, одержимые дегебраизацией идиша, упразднили в конце 1920-х.
А для меня журнал стал учебником, по нему я научился читать и писать по-еврейски. В какой-то момент в каталоге «Союзпечати» появилась газета «Биробиджанер штерн» (областные газеты обычно не имели всесоюзного распространения, однако в данном случае сделали исключение), но мы на нее подписывались только год — не хотелось больше следить за впечатляющими успехами доярок и комбайнеров Еврейской автономной области. Куда интересней читалась варшавская газета «Фолкс-штиме», которая к нам попадала урывками и с большим опозданием. Ее пересылал из Новосибирска бывший коллега отца — польский еврей, когда-то прокравшийся в СССР с мечтой участвовать в строительстве социализма. В 1937-м его арестовали как польского шпиона и выпустили из ГУЛАГа только после смерти Сталина.
Постепенно, уже в студенческие годы, я начал читать и книги на еврейском языке. Они выходили в издательстве «Советский писатель», чьим структурным подразделением являлась и редакция «Советиш геймланд». Если встречались незнакомые слова, помогали родители. Первой полностью прочитанной книгой стал роман Переца Маркиша «Трот фун дойрес» («Поступь поколений»). Много лет спустя я перечитал это перенасыщенное идеологическими схемами произведение, рукопись которого чудом пережила арест Маркиша в 1949-м, — перечитал уже совсем другими глазами...[2] После переезда в Москву я записался в городскую библиотеку имени Некрасова. У нее имелся филиал в Сокольниках с книгами «на языках народов СССР», в том числе и на еврейском — они там располагались в отделе литератур народов Дальнего Востока, то есть привязывались к Биробиджану. Правда, среди них встречались и издания с Ближнего Востока, то есть из Израиля, а также из США, Франции и других стран. В библиотеку их передавали из редакции «Советиш геймланд», а туда присылали авторы или издатели.
Немало времени, особенно после подачи документов на выезд, я проводил в Государственной исторической библиотеке. Захотелось разобраться в истории еврейских колоний (Новозлатополь и других), созданных царской администрацией в XIX веке на юге европейской части империи. Появилась и еще одна тема: евреи и Николай Иванович Пирогов, выдающийся хирург, занимавший одно время должность попечителя одесского учебного округа и сыгравший на этом посту заметную роль в истории российского еврейства. Постепенно у меня родился какой-то текст — сначала на русском, а потом и на идише. В конце 1980-го или начале 1981 года я решился зайти в редакцию «Советиш геймланд» и предложить им свою статью.
Разговор состоялся в кабинете Иосифа Шустера, ответственного секретаря журнала. Летом 1988-го я сменю его на этом посту и займу обширный письменный стол под барельефом Ленина — это довольно монументальное произведение искусства вышло из-под рук какого-то еврейского скульптора. Тогда, в день моего первого визита в редакцию, барельефа на стене, если память не изменяет, еще не было… Кроме Шустера в разговоре участвовал заместитель главного редактора Хаим Бейдер. Эти замечательные люди сыграют большую роль в моей жизни, особенно Бейдер. Но все это произойдет потом, а сначала они общались со мной чрезвычайно осторожно — пока Шустер не спросил меня (говорили мы по-еврейски): «А кем вам приходится Янкл Эстрайх?» Оказалось, что мой отец давным-давно был его учителем, и этот факт сразу изменил тон нашей беседы. Я тут же стал своим. Примерно так же случилось с героиней рассказа Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера», когда выяснилось, что ее дед и работник московской еврейской редакции выросли по соседству в местечке Золотоноша.
Бейдер рассказал мне, что вокруг редакции «крутятся» несколько человек, интересующихся еврейской историей, и пообещал позвонить, если будет происходить что-нибудь важное. Речь шла о создании при журнале Еврейской историко-этнографической комиссии (ЕИЭК) во главе с сотрудниками Института этнографии Академии наук СССР Михаилом (Микой) Членовым и Игорем Крупником. По сути дела, это был «брак по расчету». Арон Вергелис, редактор «Советиш геймланд», видевший себя и журнал центром всей еврейской жизни в стране, хотел расширить диапазон деятельности. А Членов, Крупник и еще десяток исследователей, профессионалов и любителей, пытались таким образом добиться маломальской легализации «еврейской науки»[3].
В 1981 году по случаю создания ЕИЭК в помещении редакции прошли два или три собрания — мероприятия, для того времени абсолютно уникальные. Бейдер сдержал слово, в результате чего я попал в число их участников. Открывая первое заседание, Вергелис заявил, что в случае успеха ЕИЭК может стать настоящим научным учреждением. Увлекшись (все-таки поэт!), он даже пообещал построить для комиссии отдельное здание в том старом московском дворе, куда выходили окна редакции (фасад смотрел на улицу Кирова, ныне Мясницкую). Однако вскоре этим собраниям пришел конец. Вергелис решил (или ему подсказали) провести четкую границу между редакцией и ЕИЭК. Признавать существование комиссии он перестал, но пригласил ее актив публиковать в журнале научно-популярные статьи. Многие тогда решили, что причиной охлаждения явилось выступление на втором, кажется, заседании писательницы Ширы Горшман, ярко и гневно описавшей свою поездку в родное литовское местечко, где в домах местных жителей она узнала предметы мебели и посуды, которые когда-то принадлежали ее семье.
Как мне представляется, истинную причину «развода» между «Советиш геймланд» и ЕИЭК следует искать в истории той закулисной подготовительной работы, которая завершилась в марте 1983 года возникновением Антисионистского комитета советской общественности (АКСО). Известно, что в аккуратно подобранной «инициативной» группе этой структуры Вергелис был единственным, кто усомнился в правильности ее названия, а значит — и основного направления работы. Имя его не фигурировало в первоначальном списке АКСО и стало упоминаться в отчетах о мероприятиях «антисионистов» примерно год спустя. Судя по всему, АКСО не отвечал задумке Вергелиса. Редактор «Советиш геймланд» явно хотел, чтобы появилось какое-то подобие Еврейского антифашистского комитета (предлагалось название «Евреи за мир»), где он будет кем-то вроде Соломона Михоэлса и, кроме решения чисто агитпроповских задач, возглавит всю еврейскую культурную работу в СССР[4].
Еще в 1970-е годы Вергелис заручился каким-то образом поддержкой заместителя председателя Совета министров СССР Вениамина Дымшица (многократно цитировалась саркастическая ремарка Брежнева на заседании Политбюро, что вся советская еврейская политика того времени основывалась «на одном Дымшице») и безуспешно пытался убедить партийное руководство в необходимости создания комитета по связям с прогрессивными зарубежными еврейскими организациями и деятелями, а также расширить спектр публикаций на идише, в частности — печатать еженедельную газету. Академический компонент мог стать весомым кирпичиком в этом воздушном замке. В среде научных работников могли найтись и новые кадры, в которых остро нуждался журнал, так как смерть и эмиграция сужали круг его авторов и редакторов. Из этих планов и вырос краткосрочный «роман» Вергелиса с историко-этнографической комиссией Членова и Крупника…
В 1981 году, к 20-летию «Советиш геймланд», Союз писателей СССР принял решение о наборе еврейской группы на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького. Вергелиса окрыляла мысль, что он — единственный в мире редактор литературного издания на идише, воспитывающий молодую смену. Из пяти студентов этой первой группы (еще один набор пройдет в 1989-м) трое — Борис Сандлер, Лев Беринский и Владимир (Велвл) Чернин — стали вскоре заметными именами в еврейской литературной среде. Обладатель московской областной прописки, а также несомненного и разностороннего таланта, Чернин получил работу в редакции и выступал, в частности, связующим звеном между ЕИЭК и «Советиш геймланд». Он-то и рассказал нам о новом эксперименте: подготовке специального номера — июльского за 1986 год — из работ молодых авторов. Критерием «молодости» служило рождение после окончания Отечественной войны. Правда, Вергелис проявил гибкость, закрыв глаза на более зрелый возраст Беринского и на то, что часть материалов в действительности была написана по-русски, а на еврейский переведена сотрудниками редакции. Вергелис утверждал и, видимо, верил, что эта «белая ложь» послужит стимулом для начинающих авторов, которые постараются освоить идиш. Если не ошибаюсь, стимул этот не сработал ни разу.
Советиш геймланд. 1986. № 7
Чернин предложил мне подготовить три рассказа, хотя раньше я никогда не писал художественную прозу. Мой литературный опыт сводился к нескольким коротким заметкам в «Биробиджанер штерн». Надо сказать, что Леониду Школьнику, возглавившему дальневосточную газету в 1984-м, удалось несколько расширить круг ее авторов и читателей. С приходом перестройки у «Биробиджанер штерн» даже появилась репутация прогрессивного издания. Особенно нравилось нежелание молодого редактора стать прилежным учеником Вергелиса. В 1985 году я откликнулся на призыв биробиджанской редакции поступить в школу молодого журналиста. Для этого требовалось, в частности, прислать автобиографию, написанную по-еврейски. К моему ужасу (хотя друзья по ЕИЭК советовали отнестись к этому с юмором) газета напечатала автобиографию как читательское письмо, в конце которого стояла фраза, приписанная рукой редактора, — о том, что я хотел бы на своем примере показать зарубежным клеветникам, как хорошо живется еврею в СССР.
Рассказы, написанные мною «по заданию» Чернина, были приняты к публикации в первом молодежном номере. Потом они даже появились в переводе на русский язык в альманахе «Год за годом» — ежегоднике, составлявшемся по материалам «Советиш геймланд». Так я неожиданно стал писателем. Надо признаться, что мне это ремесло понравилось, хотя в роли писателя я никогда не чувствовал себя комфортно. Всегда казалось и по-прежнему кажется, что я попал в литературный цех случайно, по какому-то «оргнабору», и печатают меня (а порой даже хвалят) просто потому, что цех этот обескровлен.
Молодежные номера «Советиш геймланд» выходили четыре года подряд. В 1989-м, обращаясь к читателям в последнем таком выпуске, Вергелис все еще писал об установившейся традиции отдавать молодым весь июльский номер журнала. Однако внимательный читатель не мог не заметить явные признаки кризиса: новые имена почти не появлялись. Весной 1990-го, когда обсуждался очередной июльский номер (полный цикл подготовки журнала занимал четыре месяца), Вергелис объявил, что отсутствие новых литературных талантов делает продолжение этого эксперимента бессмысленным, а молодежь уже достаточно оперилась и может продолжать печататься наравне с ветеранами. Двое, Борис Сандлер и автор этих воспоминаний, стали к тому времени членами редколлегии.
В июле 1989-го вместе с последним молодежным номером журнала вышел первый номер приложения «Юнгвалд» («Поросль»), к составлению которого привлекли молодого литературоведа (а ныне профессора Мичиганского университета) Михаила Крутикова. Он и поэт Михаил (Моисей) Лемстер были самыми заметными студентами второго «еврейского» набора Литинститута. Еще в 1987 году Лев Беринский предлагал выпускать под своей редакцией молодежное издание-сателлит, преобразовав для этого 64‑страничное приложение к «Советиш геймланд». Тогда Вергелис эту идею не принял, однако два года спустя реализовал — но уже под собственной редакцией. Выбор названия тоже принадлежал Вергелису: «Юнгвалд» — в честь одноименной киевской литературной группы, существовавшей в начале 1920-х годов. Из нее вышли многие советские еврейские писатели.
[1] См. об этом: Эстрайх Г. Советская казацко-еврейская доблесть в жизни и литературе // СССР во Второй мировой войне: Оккупация. Холокост. Сталинизм / Отв. ред. и сост. О.Будницкий. М., 2014. С. 314–327. [2] Отражением этого стала моя статья «(Интер)национализм в творчестве Переца Маркиша: о роли литературоведческого интерфейса в еврейской литературе», которая должна вскоре выйти в сборнике «Советская иудаика: институции и персоналии», готовящемся к печати в издательстве РГГУ. [3] См. об этом статью Игоря Крупника «Как мы занимались историей... и этнографией», которая войдет в уже упомянутый сборник «Советская иудаика: институции и персоналии». [4] Подробнее об этом см.: Эстрайх Г. Еврейская литературная жизнь Москвы, 1917–1991. СПб., 2015. С. 305–308. |
|