|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 107 / Декабрь 2013 Рецензия
|
|
||||||||
|
Писатель Бенедикт Сарнов родился в Москве в 1927 году, ему скоро восемьдесят семь, но не только этому долголетию можно завидовать. Весь поздний период его творчества потрясает фантастической плодовитостью. Достаточно взглянуть на книжные полки с его сочинениями последних двух десятилетий, где стоят: «Случаи» Зощенко, Мандельштама, Эренбурга, Маяковского, два капитальных тома воспоминаний «Скуки не было», четыре тома беспрецедентной исторической панорамы «Сталин и писатели», не говоря уже о плотных сборниках газетно-журнальной публицистики. В каждой своей книге Сарнов — аналитик, исследователь-литературовед, историк русской литературы ХХ века, наконец — неизменно интересный мемуарист. Зная, как много всего хранит его память, естественно — вопреки всему — ждать от него новых и новых работ.
Его рецензируемая книга — об Александре Солженицыне, писателе, взорвавшем нашу литературную жизнь в 1962-м и получившем спустя восемь лет Нобелевскую премию, человеке гигантской энергии, противостоявшем тоталитарной ядерной державе, которая в отместку изгнала его за свои пределы (при том, что и сама вскоре рухнула). Итоговой же метаморфозой Солженицына стали, увы, весомые утраты: и литературного дара, и человеческой харизмы, что заметную часть прежних его поклонников превратило в откровенных противников…[1]
Сарнова давно занимал вопрос, почему это произошло. Чтобы ответить на него, мало быть просто основательным критиком и литературоведом, к тому же и лично знакомым со своим героем. Нужно стать его биографом. И Сарнов это сделал. Ему удалось понять и показать, что за человек Солженицын, каковы главные черты его натуры (упорство, скрытность, вера в свою задачу и всепоглощающее служение ей, жесткость в отношениях с теми, кого считает врагами, умение подчинять себе тех, кого считает друзьями)[2]. В итоге Сарнов описал солженицынский «случай» отнюдь не внешне, не со стороны. Добавлю к этому, что, как мне кажется, немало давних читателей Солженицына могут синхронизировать эволюцию своих взглядов на него с эволюцией самого Бенедикта Михайловича.
Недавно один питерский литератор сказал мне по поводу Солженицына: не нам с вами разрушать нынешние русские святыни. Думаю, Сарнову пришлось услышать куда более яростные соображения на сей счет, но он, слава богу, не из пугливых и верен своим замыслам. Потому-то восемьсот с лишним страниц «Феномена Солженицына» и пришли к читателям.
Говоря о новой книге Сарнова, начну с того, что это многоплановый и увлекательный детектив. В него входит описание жизни нобелевского лауреата, разноаспектный, зачастую компаративистский анализ его прозы и публицистики, подчас неожиданное, но всегда убедительное сопоставление с иными писательскими судьбами (Льва Толстого, Достоевского, Гроссмана, Шаламова, Фадеева, Набокова), наконец — мемуарные страницы (отзвуки пережитого, увиденного, услышанного, прочитанного автором за долгие годы жизни, насыщенной раздумьями, встречами и беседами). В то же время перед нами — антология суждений: Солженицына, А.Пушкина, Л.Толстого, Н.Чернышевского, Н.Бердяева, Вл.Соловьева, отца А.Шмемана, Л.Чуковской, А.Твардовского, М.Лифшица, И.Бродского, В.Войновича, А.Галича, В.Аллоя, В.Шаламова, А.Янова и многих-многих других. Приводимые писательские высказывания — не цитатки ради подтверждения собственных мыслей, но пространные фрагменты текстов, с которыми автор не всегда солидарен. Кроме них цитируются и разнообразные историко-политические документы. В итоге мы практически не испытываем потребности лезть в интернет или бежать в библиотеку, чтоб проверить, уточнить, узнать подробности.
Бенедикт Сарнов — образованный писатель, и не только в части советской литературы, которой занимается всю жизнь, но и в части XIX века — века русской классики (цитирование Льва Толстого по 90-томному полному собранию для него так же естественно, как и сравнение текстов не только с каноническими, но и с черновыми вариантами). Он не позволяет себе слов поверхностных и неточных, а потому все солженицынские изъяны — в суждениях о Радищеве, масонах и Пушкине, Толстом и Чехове или об истории пореволюционной реформы русской орфографии — ненатужно опровергает. Конечно, тут можно было бы поразмышлять про нелегкую жизнь Солженицына, не давшую ему возможности получить серьезное историко-литературное образование. И тогда может показаться, что иные критические стрелы Сарнова безжалостны, однако это не так: достаточно вспомнить, что его герой — расчетливый, не знающий снисходительности, уверенный в собственной непогрешимости, всегда оставляющий за собой последнее слово. Потому-то компетентность Сарнова-критика воспринимается как абсолютно достойное и высокое судейство.
Эта книга и о том, как именно (в такт писательской и общественной эволюции Солженицына) Сарнов эволюционировал в отношении к опусам своего героя, как, случалось, поддавался переменам его взглядов, хотя чаще не принимал их, сопротивлялся им — в устной и письменной полемике с коллегами и друзьями (некоторые из собеседников Сарнова куда быстрее пришли к отрицанию недавнего кумира; иные, прощая ему огрехи, сохраняли верность тому, что считали в Солженицыне главным).
Книга названа «Феномен Солженицына»; ее открывает эпиграф — цитата из словаря иностранных слов, дающая оба смысла слова феномен: 1) редкое, необычное явление или выдающийся, исключительный в каком-либо отношении человек и 2) субъективное содержание нашего сознания, не отражающее объективной действительности. Тем самым автор подсказывает читателям, что им следует помимо общеупотребительного первого смысла держать в памяти и второй.
Обширный текст Сарнова разбит на восемь разделов, имеющих шесть заглавий.
Первый — «Огонь с неба»[3] — рассказывает о сенсационном появлении в Москве прозы Солженицына. Неудивительно, что работавший в «Литгазете» Сарнов, уже в 1962-м критик и публицист с именем, узнал об «Одном дне Ивана Денисовича» еще до публикации в «Новом мире»[4]. Он оценил повесть неизвестного рязанского учителя как голос из великой русской литературы; по его справедливому мнению, она остается художественной вершиной Солженицына.
Понятно, что приступив к книге о Солженицыне, Сарнов уже знал всю его историю, помнил и о том, как менялось собственное отношение к будущему герою. Он честно написал о своем восторге от первой повести Солженицына, о личном знакомстве с мгновенно прославившимся автором, привел и сохранившиеся у него автографы (скажем, на книжке: «Бену Сарнову с искренним расположением. 20.3.67. А.Солженицын»).
В первом разделе говорится и про обсуждение рукописи «Ракового корпуса» в московском отделении ССП, где Сарнов выступал полемически и остро, и про арест Солженицына в 1974-м и то, как Сарнов, узнав об этом, кинулся со своими друзьями домой к арестованному и застал там академика Сахарова…
Анализ трех напечатанных «Новым миром» в 1963 году рассказов Солженицына, признания, что в них сразу понравилось, что уже тогда оттолкнуло, а что уразумел лишь со временем, автоматически переходят во второй раздел — «Первые недоумения», начинающийся событиями перестройки, поездкой автора в Западную Германию и чтением там неизвестного у нас еще романа «Март Семнадцатого», а затем возвращающийся назад на четверть века — к воспоминаниям о статье Солженицына «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана», то есть к недоумениям скорее стилистическим, тотчас же породившим веселую пародию Сарнова, Лазарева и Рассадина. Обсуждается также история с иронической поэмой Давида Самойлова «Струфиан», связанной с героем нынешней книги Сарнова, и полемика с Самойловым Лидии Чуковской.
Подробная критика «Матренина двора» и суждение о Матрене Сарнова («Я мог — вчуже — ей сочувствовать, но не в силах был ей сопереживать») мне, несельскому человеку, оказались очень близки. Помню, как удивился тому, что в мемуарах Ильи Эренбурга лишь вскользь говорилось об «Иване Денисовиче», зато о «Матренином дворе» — почти с придыханием: «Прочитав короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь»[5]. Теперь думаю, что в рассказе о Матрене тогда лишь немногие смогли расчухать солженицынское нутро, а Эренбургу сделать это помешало еще и что-то вроде его давнего парижского славянофильства.
Говоря о втором рассказе («Случай на станции Кречетовка»), Сарнов признается: на смену первоначально сильному впечатлению пришли сомнения в достоверности того, что немолодой человек мог в 1942-м забыть прежнее название Сталинграда — а ведь это, собственно, его и погубило.
«…Изъян его (Солженицына. — Б.Ф.) художественного мышления, — пишет Сарнов, — с очевидностью выразился даже в лучших, самых значительных его художественных творениях, которыми мы зачитывались, которыми восхищались». Потому так убедителен анализ первых романов — «Раковый корпус» и «В круге первом» (и первоначального его варианта, начинающегося звонком героя в американское посольство, и второго, существенно ослабленного в угоду цензуре)[6]. Сарнов отмечает заметные просчеты в изображении Солженицыным нелюбимых им персонажей. Так, говоря о сталинских главах в романе «В круге первом», он показывает, как издевка и утрированный акцент снижают художественную ценность созданного образа, доведя его до карикатуры[7], рядом с которой Сталин в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» выглядит абсолютно убедительным[8]. («Не Сталина я тут защищаю, а — достоинство литературы», — поясняет Сарнов для непонятливых критиков.) Столь же внимательно исследуется и примитивный образ писателя Галахова, очевидным прототипом которого был Константин Симонов.
Вообще, в книге Сарнова тьма интереснейших сюжетов, сравнений, замечаний и поворотов (невозможно даже просто упомянуть все их здесь). Но вот об одном сочинении Солженицына, которое Сарнов справедливо называет «самой знаменитой его книгой», говорится недостаточно подробно. Описываются все трагические обстоятельства, в которых Солженицын принял мужественное решение об издании за рубежом этого фундаментального труда, имевшего огромный, воистину мировой успех, но не сам труд. Похоже, что предполагаемый размер сарновского текста об «Архипелаге ГУЛАГ» оказался столь велик, что автор, не считая «Архипелаг» художественной прозой, вынужденно ограничил себя в изложении этой темы. А жаль.
Два следующих раздела называются одинаково: «Энергия заблуждения» (в первом речь идет о Солженицыне в России и Париже, а во втором — в Вермонте). Их заголовокотсылает читателей к фразе из письма Льва Толстого Страхову: «…всё как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела. Недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя». Эта тема применительно к Толстому обсуждалась в цитируемых Сарновым работах Бориса Эйхенбаума («Для творчества ему нужна не энергия разума, не энергия истины… а энергия заблуждения. Процесс его творчества строится не на пафосе истины, а на пафосе обладания миром…»). Этому же посвятил свою последнюю книгу учитель Сарнова Виктор Шкловский, написавший о Толстом: «Он жаждал, чтобы эти заблуждения не прекращались. Они следы выбора истины. Это поиски смысла жизни человечества… Самое трудное — в заблуждении поиска найти истинный вариант»[9]. Именно к толстовскому выражению, надо думать, Сарнов пришел, размышляя над природой бешеной энергии Солженицына.
Существенен анализ Сарновым эпопеи «Красное колесо». Солженицын всегда был уверен, что именно ему предстоит сказать миру правду о русской революции 1917 года. Однако, если до первого ареста он был ленинцем, не принимавшим сталинской контрреволюции, то в свои последние десятилетия стал откровенным монархистом, для которого Февральская революция — величайшее несчастье России. Такая эволюция радикально меняла наполнение его давних литературных планов. К тому же гигантский размах «Красного колеса» (двадцать «узлов» про время до весны 1922 года) оказался неосуществимым — он реализован только до апреля 1917-го (четыре «узла» в 8 томах)[10]. Про остальное писатель задумал издать конспект без литературных героев. Говоря о «Красном колесе», Сарнов сравнивает замысел Солженицына с толстовским: «Лев Николаевич исходит из того, что с верой в божественную власть, управляющей своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей, человечество уже покончило. А все суждения Александра Исаевича, в том числе и его взгляд на роль личности в истории, основываются как раз на этой самой вере. <…> …Своей иронией Л.Н. не щадит и себя самого. Сам он ведь тоже писал “какие-то книжки”, веря в то, что они будут способствовать движению человечества в правильном направлении. …Энергию, заставлявшую его писать… он действительно считал энергией заблуждения». Солженицын же «не сомневается, что им движет энергия истины…»
Что касается конкретностей, то применительно к «Красному колесу» Сарнов обращает особое внимание читателей на язык Солженицына в «узлах» цикла. Это тема сугубо фельетонная. Сарнов не ограничивается внушительными комплектами нелепостей. Не менее убедительным доказательством вздорной неестественности солженицынской лексики является сопоставление его литературных текстов с его же письмами того времени, в которых он, естественно, обходился без придуманных словес. Аргументация усилена аналогичным сравнением литературных текстов Хлебникова, Платонова, Пастернака, Зощенко с их письмами, язык которых практически не отличается от языка их книг. Этот литературный приговор «Красному колесу» подтверждается тем, что хотя его тома издаются, их мало кто читает…
Пятый и шестой разделы рецензируемой книги (их название — «Апостол точного расчета») посвящены жизненным решениям Солженицына. Его трезвая точность и математическая расчетливость, не допускающие никаких необдуманных поступков, его неприятие русской расхлябанности (в этом смысле ему удобнее всего было жить в Германии) при внешнем русофильстве показаны Сарновым как в политической, так и в литературной работе героя. Впечатляет картина деятельности Солженицына на Западе с 1974 по 1994 годы, когда предельно комфортные бытовые условия позволили ему осуществить немалую часть задуманного и одновременно выступать с энергичной критикой западного уклада жизни.
Встреча Путина и Солженицына. 2000
Интересно описание Сарновым тщательно рассчитанного возвращения (точнее — триумфального въезда) Солженицына в Москву в 1994-м через Дальний Восток и Сибирь. Чего стоит одна только деталь — его тихо произнесенные режиссерские указания жене, уловленные микрофонами встречающих: «Задумчивость!» Дальнейшие политические игры Солженицына, будь то демонстративный отказ принять высшую награду от Ельцина, патетическая лекция в Думе или дружественная встреча с Путиным (узника ГУЛАГа восхитила деятельность нового президента), проиллюстрированы в книге соответствующими фотодокументами.
Седьмой раздел называется (как фильм Михаила Ромма) «Обыкновенный фашизм» и написан предельно жестко, без дипломатии, что, собственно говоря, не противоречит характеру героя повествования. Это заглавие обращает нас к самой проблеме русского национализма, неминуемо ведущего к антисемитизму, а стало быть, к фашизму[11]. При этом задача Сарнова состояла не просто в локальном исследовании антисемитского характера двухтомного опуса «Двести лет вместе», но и в том, чтобы объяснить читателям: это его сочинение появилось не случайно. Сарнов первым заявил, что весь литературный путь Солженицына точно уложился в общую формулу, уже давно предложенную философом Владимиром Соловьевым: «Национальное самосознание есть великое дело, но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть самоуничтожение»[12]. В «Феномене Солженицына» Сарнов показал, как неумолимо, шаг за шагом, путь Солженицына вел его к провалу[13].
Приведем три характерных сюжета из седьмого раздела.
Первый — убийство Столыпина Дмитрием Богровым в Киеве в 1911 году. Солженицын описал его в романе «Август Четырнадцатого» — во вставной новелле, напрямую не связанной с главным сюжетом. Полагая, что Столыпин намеревался довести начатую им реформу до конца и тем самым спасти Россию, игнорируя все подробности размолвок премьера с царем и все сопутствующие обстоятельства, Солженицын посчитал покушение задуманным и осуществленным российскими евреями именно для срыва реформы. Солженицын отвергает главные версии убийства — и дореволюционную (Столыпина убил агент охранки; фактически это убийство инспирировал царь), и советскую (Богров обманул жандармов и действовал как одиночка-революционер, использовавший охранку в своих целях), и «эсеровскую» (суд эсеров приговорил Богрова к смерти, и он избрал такой путь ее осуществления). Сарнов упоминает и о новой версии украинских историков (Богров не собирался убивать Столыпина, он хотел инсценировать неудачное покушение — метил попасть в орден на груди премьера) и пишет, что Солженицын встречался с авторами этой версии, но не принял их расследование (как и все прочие). Солженицыну был нужен в этом деле лишь еврейский след. Недаром он именует Богрова только Мордкой (хотя тот всегда, даже в своем предсмертном письме родителям, звал себя Митей) и окружает его в романе — вопреки исторической правде — исключительно еврейскими персонажами.
Второй сюжет — посещение Солженицыным Таврического дворца в Ленинграде, очень нужное ему для очередного романа (власти его туда не пустили). Возможность такого визита уже опальному писателю устроили Ефим Эткинд и его приятель Давид Прицкер, профессор располагавшейся там ВПШ. Сарнов рассказывает об ошеломлении Эткинда, прочитавшего об этой истории такой пассаж у Солженицына: «И если все-таки попал я туда весной 1972 — русский писатель в русское памятное место при “русских вождях”! — то с риском и находчивостью двух евреев — Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера». Эта фраза, вспоминает Сарнов, поразила Эткинда, десять лет наивно считавшего Солженицына своим другом. «Этой… репликой Александр Исаевич открылся. Он — проговорился», — пишет Сарнов и продолжает: «…в сущности, он сказал вот что: <…> Я, русский писатель и коренной русский человек, здесь — изгой. И чтобы проникнуть в святое место русской истории, вынужден обратиться к чужакам. Выходит, что эти чужаки здесь, в моей стране, по-прежнему — как и в первые советские годы — у власти! <…> …Ясно почему: благодаря своей угодливости, неистребимой своей приспособляемости, готовности и умению прислониться, пристроиться к любой власти, какой бы чужой и даже ненавистной им она ни была. Им, в сущности, все равно, какая здесь, в этой стране, власть. Потому что эта страна им — чужая». Вывод Сарнова точен: «Это был антисемитизм уже не идеологический, не “концептуальный”, а самый что ни на есть обыкновенный. Тут уж он не только ТАК ДУМАЛ, но — ТАК ЧУВСТВОВАЛ».
Третий сюжет — в том, как описывает Солженицын участие советских евреев в Отечественной войне. Сарнов приводит на этот счет его впечатляющие фразы. Скажем: «Я видел евреев на фронте. Знал среди них бесстрашных. Не хоронил ни одного»[14]. Вслед за этим Солженицын пишет: «Более чем реально воевал поэт Борис Слуцкий… <…> Или Лазарь Лазарев, потом известный литературовед…»[15] Тут Сарнов к месту вспоминает стихи Бориса Слуцкого:
И пуля меня миновала, чтоб знали: молва не лжива. Евреев не убивало. Все воротились живы.
Сам Сарнов по молодости лет не воевал в Отечественную и отвечает Солженицыну словами писателя-фронтовика Григория Бакланова: «Ведь он (Солженицын. — Б.Ф.) за всю войну ни разу не выстрелил по немцам, туда, где он был, пули не залетали. Так ты хоть других не попрекай. Нет, попрекает. <…> Но сам-то Солженицын и дня в пехоте не был, ни разу не ранен, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит». И еще вспоминает Сарнов, что написал Солженицын с фронта в 1944-м приятелю, имея в виду их довоенные литературные замыслы: «Я всегда стараюсь избегать боя — главным образом потому, что надо беречь силы, не растрачивать резервов — и не тебя мне пропагандировать…» В иллюстрациях к книге есть фотография Солженицына на фронте — очень о многом говорящая…
«Фронтовая» фотография Солженицына с женой
Помнит Сарнов и то, что еще до выхода первого тома «Двухсот лет вместе» некто Анатолий Сидорченко напечатал в своей откровенно черносотенной книжке неизвестную до того скандальную работу Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России». Сарнов подробно рассказывает, как увертливо отвечал Солженицын на расспросы интервьюеров об этом тексте (якобы у него были выкрадены черновики и т. д.). И лишь когда бывшая жена писателя подтвердила его авторство, ему пришлось искать иные отговорки. Но Сарнов приводит куски из «Двухсот лет», прямо совпадающие с тем, что напечатал Сидорченко. И с этим уже не поспоришь. Значит, еще в 1968 году, когда Солженицын опасался ареста и спешил поделиться с потомками самыми важными своими мыслями, он и набросал этот, как его назвал Сарнов, «Манифест русского фашизма», в котором нет той ноты лицемерия, что подкрасила два более поздних и куда более пространных тома («…Строго говоря, всё, что всплыло в этом “черновике”, есть и в главном, двухтомном, действительно капитальном его труде, — пишет Сарнов. — Разве только там он все это обложил ватой, припудрил, причесал, переложил дипломатическими реверансами из репертуара кота Леопольда, уговаривавшего мышей жить дружно».) В 1968-м, рассуждая о том, как быть России с евреями, Солженицын предлагал выпустить всех, кто захочет уехать, за границу, а тех, кто не захочет, поделить на две группы: для желающих оставаться евреями предполагались ограничения в части занятия государственных должностей, а тех, кто желал для себя полного обрусения, рекомендовалось поселять в русской глухомани — пока не станут неотличимы от аборигенов…
Соглашусь с общим выводом Сарнова: «На мой взгляд… причина краха, постигшего автора этого двухтомного труда, в идеологии. В той самой национальной идее, которая владеет душой Александра Исаевича. Именно она, эта национальная идея, эта националистическая идеология подмяла под себя, подчинила себе, с потрохами съела и совесть его, и ум, и логику, и талант». И скажу спасибо Бенедикту Михайловичу за книгу, которая думающим читателям облегчит путь к истине. [1] Сарнов Б.М. Феномен Солженицына. М.: Эксмо, 2012. 848 с., [8] л. ил. 3000 экз. [2] Отмечу, что именно эти качества позволили Солженицыну выстоять в начале его непростого жизненного пути — выжить, начать тайно писать книгу за книгой, сберегая все написанное, но эти же качества обеспечили и метаморфозу, которая привела писателя к тому, чем он кончил. [3] Сарнов использовал здесь известные ему слова С.Я.Маршака, сказанные как-то редактору «Нового мира» А.Т.Твардовскому: «Надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба…» [4] Манера Сарнова заразительна, и рецензенту не удержаться от воспоминаний. Я прочел «Ивана Денисовича» в конце 1962-го, будучи студентом — узнал о нем из залпа восторженных рецензий Маршака, Симонова, Бакланова… В киосках «Союзпечати» 11-й номер «Нового мира» разлетелся мгновенно; в библиотеке физфака я получил журнал на один день и потрясение прочитанным помню по сие время. Вскоре повесть вышла в многотиражной «Роман-газете» и книжицей в «Совписе» (они хранятся у меня и теперь), все дальнейшие публикации Солженицына (несколько рассказов и статей в периодике) я уже не пропускал. [5] Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 2005. Т. 3. С. 315. [6] Этот второй вариант романа был написан в 1965 году, но его все равно не напечатали, и в 1968-м Солженицын вернулся к первоначальной редакции. [7] Здесь, правда, следует указать на безусловную удачу Солженицына в романе «Ленин в Цюрихе». Сарнов приводит свидетельства, подтверждающие несомненную близость Солженицыну Ленина как типа политического лидера, — например, сказанное им наедине отцу Александру Шмеману «Я — Ленин…» и ответная ремарка в дневнике священника: «Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы». В другом месте своих дневников Шмеман пишет о житейской гениальности Солженицына, выразившейся в бешеной целеустремленности, как о явлении, несовместимом с художественным даром. [8] Заметим, что Рыбакова, в отличие от Солженицына, никому и в голову не приходило именовать новым Львом Толстым. [9] Шкловский В.Б. Энергия заблуждения. М., 1981. С. 7–9. [10] В этом смысле интересно сарновское сравнение «случая Солженицына» с судьбой Чернышевского, который свои ранние и никак не менее претенциозные планы с возрастом решительно упростил. [11] Сарнов приводит знаменитые слова Юлиана Тувима «Антисемитизм — международный язык фашизма», которые стали известны в СССР благодаря Илье Эренбургу, настойчиво их повторявшему даже в черные годы сталинского госантисемитизма. [12] Это дурная наследственность России, в нее укладывается и приводимая в книге цитата из Путина: «Нам нечего стыдиться своей истории». [13] В этом существенное отличие «Феномена Солженицына» от, скажем, хлесткой книги-фельетона Владимира Войновича. [14] Эта фраза, со значением написанная Солженицыным, сильно задела меня лично: мой отец, еврей, в июле 1943 года был убит на Ленинградском фронте немецким снайпером, когда вел за собой в разведку бойцов. Но я с детства немало наслушался антисемитов и словам Солженицына не удивляюсь. [15] Помню, как я упомянул об этих словах Солженицына, разговаривая в редакции «Вопросов литературы» с Лазаревым (он прошел всю войну и был на фронте тяжело ранен). Лазарь Ильич, потемнев лицом, сказал мне: «Не ему решать, кто герой, а кто нет, и кто как воевал». |
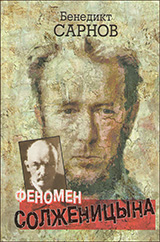 |




