|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 102 / Февраль 2013 Имена
(к столетию талантливейшего писателя, успевшего осуществить лишь малую часть начатого и задуманного) |
|
||||||||
|
Господи, разве можно так поступать? Дать человеку талант и не дать
здоровья! Смотри, как мне плохо, а я ведь должен написать свой роман.
Кто-кто, а ты ведь знаешь, как это нужно написать. Эм.Казакевич. Дневник. 24.ХII.61[1]
Эммануил Казакевич родился на Украине и прожил в тех краях до начала тридцатых годов.
Отец писателя Генрих (Генех) Львович Казакевич, уроженец севера Черниговской губернии, получил традиционное еврейское образование, а затем, окончив педагогические курсы в Гродно, учительствовал в разных городах черты оседлости — от Кременчуга до Екатеринослава[2]. Участвуя с молодых лет в разношерстном еврейском социалистическом движении и время от времени подвергаясь положенным за революционную деятельность преследованиям, он постепенно менял политическую принадлежность от сионистской рабочей партии до (уже после октября 1917-го) большевистской. На германскую, как тогда говорили (она же Империалистическая и она же Первая мировая), войну Генриха Казакевича не призвали из-за сильной близорукости[3]. После Февральской революции, предоставившей евреям России равные со всеми гражданами страны права, молодой учитель целиком переключился на общественную деятельность, прежде всего — в качестве журналиста и редактора. Его первые публицистические статьи появились летом 1917 года на страницах екатеринославской газеты «Дер кемпфер» («Борец»)[4]. Одновременно там же дебютировал и знаменитый в будущем еврейский поэт Перец Маркиш. Пережив тяготы и ужасы Гражданской войны, Генрих Львович с семьей перебрался в Киев, где совмещал редактирование органа украинской Евсекции «Комунистише фон» («Коммунистическое знамя») с повседневной публицистикой и литературной критикой. Подобно многим левым еврейским интеллектуалам того времени, он искренне принял новую власть, увидев в ней залог и национального равноправия, и будущего расцвета национальной культуры — литературы, прессы, школы и театра на идише.
Эммануил Казакевич (1913–1962)
В 1924 году семья Казакевичей переехала в тогдашнюю столицу Украины, Харьков, где старший Казакевич получил назначение редактором «толстого» литературно-художественного журнала «Ди ройте велт» («Красный мир») и одновременно — членом редколлегии ежедневной республиканской газеты «Дер штерн» («Звезда»). Позже он работал директором открывшегося в Харькове еврейского театра, а затем — редактором еврейской литературы в Укрнацмениздате.
Приведу отрывок из воспоминаний сестры Эммануила Казакевича об этой поре их жизни:
В Харькове наш дом всегда был полон известных и начинающих писателей и поэтов. У нас запросто бывали и останавливались, подолгу жили, приезжая из других городов, Квитко, Маркиш, Фефер, Фининберг, Гофштейн и многие другие. Как-то Перец Маркиш воскликнул, обращаясь к нашей маме: «Женя, скоро ваша кушетка заговорит стихами!» На этой кушетке спали приезжавшие поэты, в том числе и он. Приходили к нам и известные артисты, режиссеры, композиторы. Михоэлс, Зускин были личными друзьями нашего отца, и, когда московский ГОСЕТ приезжал на гастроли в Харьков, первый их визит был к нам. Режиссеры и театральные деятели Грановский, Марголин, Лойтер — все были вхожи в наш дом, все любили нашего отца Генриха Львовича. Он действительно был красивый человек. Отец был добрый, общительный, вспыльчивый, увлекающийся, веселый. И очень артистичный. Хорошо пел, прекрасно читал вслух [5].
А следом в этих воспоминаниях приводятся слова брата из его письма 1942 года: «Я и ты — дети своего отца, человека могучего нравственного здоровья, оптимиста, Брюньона-интеллигента (Кола Брюньон — герой повести Р.Роллана. — Б.Ф.). И — не знаю, как тебе, но мне это помогает. В худшие времена я всегда слышал в себе биенье папиного сердца и видел его улыбку…»
Эма Казакевич, обитая в замечательной литературно-артистической среде, вырос весьма образованным молодым человеком, ярко одаренным музыкально и литературно, к тому же он обладал многими задатками лидера, чем особенно выделялся в кругу своих сверстников (Казакевич умер, не достигнув пятидесяти лет, и многие друзья детства оставили живые, восторженные воспоминания о годах его молодости). После окончания в 1927-м семилетней трудовой школы он начал было учиться в профтехшколе, вскоре ставшей техникумом, но охотно расстался с ней — не техника манила его. Он писал рассказы и, главным образом, стихи, а также много стихов переводил на идиш — особенно любимых им Гейне и Маяковского[6].
В 1930 году Генрих Львович Казакевич получил новое назначение — редактором газеты «Биробиджанер штерн». Его дочь вместе с мужем и полуторагодовалым сыном переехала в Москву — похоже, у нее не было желания создавать еврейский очаг на Дальнем Востоке, впоследствии получивший название Еврейская автономная область. Восемнадцатилетний Эма отправился за отцом — в Биробиджан. На гребне внешне романтичной волны молодой Казакевич — пылкий комсомолец и энтузиаст — энергично принялся за необъятную работу: трудился на стройке, руководил созданием еврейского колхоза[7], затем стал первым директором Биробиджанского ГОСЕТа, наконец мы видим его еврейским поэтом. В 1932-м в Биробиджане вышла первая книга стихов Эммануила Казакевича на идише — «Биребиджанбой» («Биробиджанстрой»).
Генрих Львович вписался в новую жизнь Биробиджана, и, как пишет биограф его сына: «Их дом, их семья были в этой глухомани, как ранее в столичном Харькове, бастионом культуры»[8]. Но в декабре 1935-го старший Казакевич неожиданно скончался; он был похоронен с подобающими почестями, а его имя присвоили улице и городскому кинотеатру (понятно, что семья очень этим гордилась) [9]. А через полтора месяца его детей ждал новый удар судьбы — так же скоропостижно умерла мать, и младшие Казакевичи осиротели. Когда в приснопамятном 1937-м Эммануил отправился в Москву навестить сестру, именно в столице его нашло известие из Биробиджана о развернувшейся там вакханалии местного террора. То же самое творилось тогда повсеместно: всюду шло выискивание и разоблачение «врагов народа» — не только еще живых, но и уже мертвых. Так, в антипартийном прошлом был посмертно обвинен и Г.Л.Казакевич, и с биробиджанской улицы, совсем недавно получившей его имя, принялись спешно сбивать таблички с названием. Вскоре в ЕАО распространился слух, что известный в недавнем прошлом комсомольский поэт Эммануил Казакевич оказался двурушником и арестован при переходе маньчжурской границы как японский шпион… Это липовое сообщение облегчило его герою окончательное расставание с Биробиджаном, а с другой стороны, возможно, именно оно объясняет, почему означенного «шпиона» компетентные органы больше нигде не искали.
То вместе с женой и двумя дочерями скрываясь у родных в белорусской деревне, то кочуя по Подмосковью, Казакевич дотянул до ликвидации сделавшего к концу 1938-го порученное ему дело Ежова и лишь тогда рискнул перебраться собственно в Москву. Ради заработка он начал готовить переводы на идиш для центрального еврейского издательства «Дер эмес»[10] и при этом продолжал заниматься еврейской поэзией. В 1939-м вышла вторая книга его стихов и поэм — «Гройсе велт» («Большой мир»), в 1941-м — роман в стихах «Шолом и Хава»[11]. В 1940-м увидел свет и сборник очерков Казакевича «Дер вег кейн Биробиджан» («Дорога в Биробиджан»), а в БирГОСЕТе поставили пьесу «Милх ун хоник» («Молоко и мед»), написанную им еще до отъезда с Дальнего Востока.
Перед самой войной имели место и его первые попытки перейти на русский язык, причем — в жанре драматургии. Казакевич тогда задумал и даже начал писать по-русски трагедию о Колумбе. В первые месяцы войны, на фронте, в свободные минуты он вспоминал об этом своем незавершенном труде, вернуться к которому ему было уже не суждено…[12] Сей странный сюжет напомнил мне об одной записи из его дневников 1961 года, которую так и не напечатали в посмертных книгах Казакевича (даже в наиболее полном сборнике дневников и писем «Слушая время»). Вот эта запись:
20.8.61 Был у меня сегодня виленский еврейский поэт Ошерович [13]. Читал мне свои поэмы, одна — о Спартаке, другая — об исходе из Египта, третья — о Хиросиме. Написано с умением, местами талантливо и умно. Единственная беда: никому не нужно. Писать на живом, полном жизни языке, на котором говорят и производят материальные ценности люди — рабочие и крестьяне, — писать на таком языке можно лучше или хуже; писать же на умирающем или уже умершем языке после той трагедии, которую народ и язык пережили, можно только гениально, иначе это никому не нужно. Но! Диалектика! Писать гениально можно только на полном жизни, живом, развивающемся языке. Когда литература становится личным делом 50-ти или 500 человек, она теряет основную свою функцию — перестает быть средством общения и средством совершенствования общества. Потеряв это качество, она перестает быть литературой. В большом огромном хозяйстве — Спартак тоже вещь. В крошечном мирке, где все дела, кроме стихописания, делаются на других языках, — Спартак nonsense. И все-таки, хотя тебе смешно и грустно, но при этом ты немножко гордишься человеком. «Что тебе Спартак?» — думал я с таким же удивлением, как некогда Гамлет думал: «Что ему Гекуба? Что она — ему?»
Зная этот текст, с некоторым недоумением встречаешь все новые и новые повторения безосновательной и, пожалуй, даже нелепой легенды, кочующей по массовым изданиям, — об Эммануиле Казакевиче, якобы вернувшемся под конец жизни к идишу… [14]
Следует сказать, что дневниковую запись разговора с Ошеровичем хотела напечатать, готовя посмертные публикации мужа, Галина Осиповна Казакевич. Но что-то ее в этой страничке смущало. Почувствовав, что нуждается в дельном совете, она обратилась к человеку, которому Казакевич еще в 1948-м году признался: «Не много осталось на свете судей, чье мнение для меня так важно, как Ваше»[15]. 12 мая 1966-го Галина Осиповна написала Илье Эренбургу: «Я обращаюсь к Вам за советом, как к единственной и высшей инстанции. Ваш совет, если Вы захотите мне его дать, будет для меня окончательным, и я поступлю так, как Вы скажете. Сомнение же у меня такое: следует ли в книгу “Дневниковые записи” Эммануила Генриховича включить такую запись…» А далее она привела процитированные мною слова об Ошеровиче[16].
Две недели спустя, 26 мая, Эренбург продиктовал своему секретарю Н.И.Столяровой ответ вдове Казакевича, которого любил и уважал: «Я понимаю Ваше колебание. Действительно, эта сжатая дневниковая заметка Эммануила Генриховича может в настоящее время прозвучать болезненно для писателей, пишущих на идиш. А этого он, конечно, не мог пожелать»[17]. В итоге приведенная запись так и не была обнародована в течение четырех последовавших десятилетий — вплоть до того времени, когда ко мне, наследнику и публикатору архива Эренбурга, попало это письмо Г.О.Казакевич.
Продолжим рассказ о судьбе нашего героя.
Имея из-за сильной наследственной близорукости «белый билет», член Союза писателей Казакевич уже в июле 1941-го записался в московское ополчение (его зачислили в писательскую роту) — так он стал рядовым дивизии, в которой было полно ученых, архитекторов, литераторов, художников, и участвовал в боях, где полегла масса необученных ополченцев; попал в окружение и вышел из него; учился на военных курсах и рвался на фронт, но его долго придерживали, считая незаменимым работником (он обеспечивал выпуск газеты запасной курсантской бригады во Владимире). Поняв, что начальство меньше всего заинтересовано в его отправлении на фронт, Казакевич решил туда бежать и, рискуя попасть под трибунал, такой побег действительно совершил. Весной 1943-го он стал военным разведчиком, успешно справлялся с новым для себя делом, к концу войны был начальником разведки дивизии, а затем и помощником начальника разведки армии, заслуженно получил три ордена и звание майора. В многочисленных воспоминаниях о нем боевых товарищей возникает образ смелого разведчика, блистательного и отзывчивого человека. Прослужив по окончании войны еще до весны 1946-го в составе советских оккупационных войск в Германии (этот опыт тоже оказался ценным для будущего прозаика — вспомним его роман «Дом на площади»), Казакевич демобилизовался и вернулся к занятиям литературой, сразу начав писать прозу по-русски.
Уже первая написанная им небольшая, печально лирическая повесть «Звезда» о группе наших разведчиков, отдавших свои жизни, чтобы добыть и передать через линию фронта сведения о развертывавшейся танковой дивизии СС, имела ошеломляющий успех и в 1948-м получила высшую по тем временам литературную награду — Сталинскую премию[18]. Вскоре под названием «Грине шотнс» («Зеленые тени») вышел и авторский перевод этой повести на идиш. Судя по всему, это было его последнее обращение к творчеству на еврейском языке…[19]   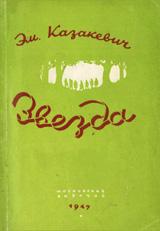 
Первое послевоенное произведение Казакевича — повесть «Звезда», в версии на идише — «Грине шотнс» («Зеленые тени») Так получилось, что в итоге Эммануил Казакевич вошел в русскую литературу главным образом военными произведениями. Литературный путь его, однако, был нелегким, он напоминал зебру: вторую, драматическую повесть Казакевича «Двое в степи» (1948), которую он сам справедливо считал наиболее удавшейся ему (столь же высоко ее оценивали и люди, мнением которых Казакевич дорожил), подвергли сокрушительному разносу в печати, и это на много лет закрыло ей путь к переизданию. 3 февраля 1960-го Казакевич писал старшей дочери: «“Двое в степи” проходят свой крестный путь: Лесючевский [20], страха ради иудейска, не спешит, тянет, но это все равно — необратимо, и он это знает, полагаю»[21]. И полгода спустя, 1 июля, — жене: «От Лесючевского — ни звука. Он саботирует уже совершенно беззастенчиво, справедливо считая, подобно тьме подлецов, что шкура дороже чести. Полагаю, он ждет решения вопроса о “Ленине”. Разрешение печатать эту повесть будет играть важную роль»[22]. Доносчик и негодяй Лесючевский безраздельно командовал издательством «Советский писатель» — кто измерит то зло, которое он принес нашей литературе и ее подлинным писателям?
«Двое в степи» включили в сборник произведений Казакевича лишь в год смерти автора — через четырнадцать лет после первой, журнальной публикации. Герой этой повести, лейтенант связи Огарков, растерявшись, совершает ошибку и оказывается обвинен в гибели дивизии. Трибунал приговаривает его к расстрелу, отправив в сопровождении конвойного Джурабаева в штаб армии, где смертный приговор следовало утвердить. Тут случается внезапный прорыв немцев, наши войска отступают, и Огарков с конвойным остаются одни в степи. Не раз герой мог бежать, но не делает этого, и даже когда конвойный погибает, Огарков выходит из окружения к своим, готовый принять любое решение судьбы. В самом сюжете тогдашняя критика усматривала попытку реабилитации «преступника».
Первый роман Казакевича «Весна на Одере» (1949)[23], как и его первая повесть, удостоился Сталинской премии, а следующую повесть «Сердце друга» (1953) опять же изругали. В промежутке между ними Казакевич написал повесть «Донос», которую в 1950 году уничтожил, опасаясь обыска и ареста (от нее уцелел лишь один набросок).
Еще 27 января 1950-го Казакевич пометил в дневнике: «Думать об эпопее» — это первая запись о том самом романе «Новая земля», про который говорится в эпиграфе, том самом романе, с мучительной мыслью о котором он умер. Писатель будет работать над ним урывками с 1954-го, потом все чаще и плотнее. «Мысль о создании этой книги (или, вернее сказать, серии книг), — записано в дневнике, — пришла мне в голову неожиданно и, придя, ошеломила меня. Ошеломила своей дерзостью, грандиозностью замысла. Потом испугала невероятным обилием трудностей различного порядка, среди которых немалое место занимает цензура…»
В марте 1953-го завершилась сталинская эпоха. 25 апреля Казакевич отмечает в дневнике: «…умер И.В.Сталин. До сих пор трудно представить себе, что его нет. <…> Придет время, и о нем можно будет писать». Теперь он заносит в дневник и то, что прежде — не рискнул бы. Вот запись от 21 июля, по прочтении десятого тома «Истории французской революции» Луи Блана:
…один вопрос волнует меня больше всего: где же граница революции? Неужели она может кончиться только девятым термидора, только реакцией? Реакция кроется в недрах каждой революции, как революция кроется в недрах старого порядка? Можно ли миновать термидор? И как? Постоянным, продолжающимся до бесконечности террором или мирным, основанным на законности, закреплением завоеваний революции? Вот в чем весь вопрос. <…> Современникам бывает очень трудно отличить красный террор от белого, рядящегося в красный. Ведь 9 термидора начался террор тоже «против тирании», лозунги революции по-прежнему оставались на поверхности общественных отношений… <…> Видимо, истина заключается в том, что революция (буржуазная) выполнила свою задачу, сделав буржуазию командующим классом. Робеспьер оказывался ненужным более. А теперь?
Кто еще из советских писателей так ставил перед собой вопрос летом 1953-го?
Заносятся в дневник и соображения об эпопее «Новая земля»:
Конечно, роман должен был бы, вероятно, охватить время от 1916 до 1956 года (по крайней мере 40 лет! — но каких 40 лет!..)… это вряд ли под силу одному человеку, если вести с обстоятельностью подлинной прозы и если писать один роман, а не серию… <…> Вернее, это под силу, но это задача всей жизни. Гражданская же война — вот для меня камень преткновения. Я очень любил ее — это время — раньше, а в последнее время как-то разлюбил. Видимо, это просто нежелание писать историческое, я писатель современный. Конец двадцатых и тридцатые — это уже современность, моя биография.
Одновременно идут записи о переосмыслении недавнего прошлого. Так, после нескольких дней общения с генсеком Союза писателей Фадеевым Казакевич обнаруживает, что тот попросту изолгался и вообще — ничто! А подводя итоги года, называет 1953-й «годом спасения».
И уже в 1955-м, когда еще никто и не помышлял о самой возможности знаменитого доклада Хрущева на ХХ съезде, в дневнике Казакевича появляются точные и жесткие, как приговор истории, строки об умершем тиране:
Он [Сталин] знал, что даже у великих артистов, поэтов, ученых и философов есть только по два яйца, и если хорошо отдавливать их дверью, то данный артист, ученый и философ забудет, кем он был. И, зная это, он неоднократно с успехом применял эту методу. Он требовал от всех скромности, сам же был одержим бешеным честолюбием. Он требовал от всех бескорыстия, а сам жил, как миллиардер. Он требовал от всех моральной чистоты, а сам был глубоко аморальным человеком в семье и политике. Он учил всех быть марксистами и пролетарскими революционерами, а сам был обыкновенным царем [24]. Ни Иуда, предавший своего бога, ни Азеф, предавший свою партию, ни Филипп Орлеанский, предавший свое сословие, не наделали столько вреда своему богу, своей партии и своему сословию, сколько он — своему делу.
Ну, скажут теперь, это же об умершем, неопасном тиране, но вот другая его запись того же времени:
Ох как надо поднять сельское хозяйство! Хрущев молодец. Хорошо бы он ограничился только внутренними делами. Во внешней политике и в делах идеологии он, по-видимому, малое дитя. У него есть здоровое чутье, но чутье без знаний и глубокого ума — штука ненадежная.
В 1954-м Казакевич начал писать свой последний роман на военную тему «Дом на площади»; при этом его одолевали многие проекты и потому мучили сомнения:
Дана ли мне сила прозвучать трубой на дорогах моего времени? Или только бабочкой махнуть крылышками по дорожке? Ведь я прирожденный драматург — и не написал ни одной пьесы. Ведь я чувствую настоящее кино и знаю, как его делать, — и не написал ни одного сценария. Я почти ничего не сделал — я, созданный для большого дела. Зная, что и кого винить в этом, я не могу не винить и самого себя. Надо отказаться от суетности. Надо забыть, что у тебя семья и надо ее кормить, что есть начальство и надо ему потрафлять. Надо помнить только об искусстве и о подлинных, а не мнимых интересах народа. М. б., тогда можно еще что-то успеть, хотя все равно не все, что было бы возможно.
«Дом на площади» был напечатан в альманахе «Литературная Москва». Казакевич входил в его редколлегию наряду с М.Алигер, А.Беком, К.Паустовским, В.Кавериным… И все эти известные писатели, безвозмездно и равноправно работавшие над выпуском уникального для своего времени издания, убежденно и справедливо признавали именно Казакевича главным его редактором. На редкость совестливый писатель К.Г.Паустовский вспоминал времена «Литературной Москвы»: «Альманах вел Казакевич — человек, если можно так выразиться, сверкающий. Безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям. Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен»[25]. Добавлю к этому еще и то, что Казакевич был человеком веселым, озорным, подчас едким, автором блистательных экспромтов и эпиграмм, наповал разящих его врагов и вызывающих у них припадки лютой злобы…
Упомянув об этом, не могу удержаться и, рискуя расстроить плавность повествования, приведу сонет Казакевича на драку двух главных антисемитов Союза писателей сталинской эпохи — липового прозаика Бубеннова (автора «Белой березы», за которую он стал сталинским лауреатом) и еще более липового драматурга Сурова (также сталинского лауреата, которому пьесы писали лишенные работы московские писатели еврейского происхождения):
Суровый Суров не любил евреев, Он к ним враждой старинною пылал, За что его не жаловал Фадеев И А.Сурков не очень одобрял.
Когда же Суров, мрак души развеяв, На них кидаться чуть поменьше стал, М.Бубеннов, насилие содеяв, Его старинной мебелью долбал.
Певец березы в жопу драматурга С ужасной злобой, словно в Эренбурга, Столовое вонзает серебро.
Но, следуя традициям привычным, Лишь как конфликт хорошего с отличным Решает это дело партбюро [26].
Вернемся, однако, от бытовой литературной Москвы к одноименному альманаху. Первый его выпуск с «Домом на площади» был сдан в набор 31 января 1955-го и подписан в печать 17 февраля 1956-го. В двух выпусках «Литературной Москвы», вышедших в 1956 году, печатались Заболоцкий, Мартынов, Гроссман, Ахматова, Слуцкий, Шкловский, Липкин, К. и Л.Чуковские, Пастернак, Каверин, Яшин, Цветаева, Олеша и другие, нелегко попадавшие на журнальные страницы прежде. Летом 1958-го писатели-завистники, чьи бездарные сочинения не имели шансов попасть на страницы издания, объединились и, опираясь на идеологические службы ЦК КПСС, добились того, что решением общего собрания московской писательской организации альманах закрыли, а набор его третьего выпуска рассыпали[27]. Казакевич слишком хорошо узнал эту публику. В его дневнике есть поразительно точная запись (14 октября 1961-го) об Анатолии Софронове и иже с ним:
Их объединяет не организация, и не общая идеология, и не общая любовь, и не зависть, а нечто более сильное и глубокое — бездарность. К чему удивляться их круговой поруке, их спаянности, их организованности, их настойчивости? Бездарность — великая цепь, великий тайный орден, франкмасонский знак, который они узнают друг на друге моментально и который их сближает, как старообрядческое двуперстие — раскольников. Бездарность — огромная сила, особенно в нашем мире, который провозгласил счастье и процветание обыкновенных простых людей своей целью. Простых, обыкновенных, не обязательно талантливых и умелых. <…> Они сильны, потому что едины, а едины из чувства самосохранения, ибо каждый из них в глубине души знает, что в одиночку он нуль.
Роман «Дом на площади» оказался последней книгой Казакевича, написанной на его военном опыте, и вообще последней завершенной им большой книгой.
Следующей законченной прозой Казакевича, ставшей в известном смысле сенсацией, была повесть «Синяя тетрадь». Ее первоначальное, авторское название — «Ленин в Разливе» (сюжет относится к лету 1917 года, когда, после провалившейся попытки большевиков захватить власть, их лидеры бежали из Петрограда, причем Ленин вместе с Зиновьевым укрылись в знаменитом шалаше). Эта повесть реализовала давнюю мечту Казакевича написать о Ленине, историческую роль которого он, конечно, идеализировал, но не забудем, что на фоне живших в его памяти разнузданного культа и преступной политики Сталина, с проявлениями которых писатель сталкивался с 1930-х годов, это было едва ли не естественно. 26 февраля 1958-го Казакевич сообщал своему другу Маргарите Алигер: «…дописываю повесть “Ленин в Разливе”, которую надеюсь через два-три месяца докончить. <…> Мне начинает казаться, что внутренний мир Ленина в этой маленькой повести стал переливаться, как живой…»[28] Казакевич, считая произведение вполне законченным, отправил его в «Новый мир» Твардовскому, но неожиданно получил в ответ длинный список недоуменных вопросов, замечаний и поправок. 28 января 1959-го он укорял редактора «Нового мира»: «Печально, когда автор вынужден излагать свои соображения о собственной, уже написанной, повести, но ничего не поделаешь»[29]. Главные вопросы касались взаимоотношений Ленина с Зиновьевым и самой фигуры Зиновьева, впервые после сталинских десятилетий появившейся на страницах литературного произведения без клейма предателя, злейшего врага народа, шпиона и убийцы[30]. На все эти вопросы Казакевич отвечал подробно и аргументированно, иногда даже саркастично: «Что касается умозаключения… что Зиновьев притворялся, что любит Ленина (до революции!), то не кажется ли Вам, что из карьеристских соображений Зиновьеву было бы много выгодней притворяться, что он любит графа Витте?»[31] Твардовский, ценивший художественную прозу Казакевича, но, думается, равнодушный к самому́ сюжету «Ленина в Разливе», а известной его сенсационности опасавшийся, не желал иметь из-за этой вещи проблем с цензурой, потому и оценил спокойный тон полученного письма. 5 февраля он ответил Казакевичу так: «Очень рад был прочесть Ваше обстоятельное и вполне правомерное, несмотря на некоторую его петушистость, простите, письмо… Рад, что Вы без растерянности и столь естественного в подобных случаях авторского закусывания удил, без паники, но во всеоружии сознательного освоения исторического и фактического материала способны отстаивать работу свою в тех случаях, где замечания рецензентов и редакторов представляются вам неосновательными, и, вместе с тем, проявляете великодушную готовность уступить там, где пожелания носят “независимый” от нас характер…»[32]
Сколько мог себе позволить, Казакевич пошел навстречу пожеланиям редакции, имея в виду ожидаемые требования сверху; повесть набрали в очередной номер, но цензура зарубила текст на корню. Узнав об этом, редактор «Октября» Федор Панфёров предложил Казакевичу показать ему рукопись и, прочитав ее, принял к печати, попросив лишь кое-что исправить. Казакевич снова принялся за работу.
Вот отрывки из его писем старшей дочери и жене. 3 февраля 1960-го: «Ленинская повесть будет ли напечатана, еще не целиком ясно, но надежды большие; Панфёров сказал, что у него нет и 1% сомнений. Признаться, у меня их наберется процентов 50 или даже 51. Скоро узнаем»[33]. И 1 июля: «В 9-м номере… повесть будет напечатана... Формулировка достойна всей истории: “Под ответственность редколлегии” (!!). Полтора года читали, метили, давали советы, требовали купюр и поправок и наконец решили: “Под ответственность редколлегии”!»[34]
Во время подготовки «Синей тетради» к печати Панфёров, очень хотевший доказать Твардовскому, что он-то сможет ее напечатать, умер. О дальнейшем узнаём из декабрьского письма Казакевича единственному человеку, который мог ему реально помочь, — первому лицу страны Н.С.Хрущеву:
Свыше двух лет назад я закончил повесть «Синяя тетрадь» (первоначально она называлась «Ленин в Разливе»). Свыше двух лет все ее хвалят, хотят печатать, но не печатают. Первый вариант был принят к печати журналом «Новый мир» (редактор А.Твардовский), но был запрещен. Другой журнал, «Октябрь» (редактор Ф.Панфёров), решил печатать повесть, потребовав от меня дополнительной работы. Федор Панфёров, при поддержке членов редколлегии, до последнего дня жизни боролся за ее напечатание. После многих месяцев работы и длительных обсуждений повесть, в улучшенном, исправленном виде, была разрешена Центральным Комитетом партии. Ее читали и одобрили товарищи Суслов, Мухитдинов, Поспелов [35]. Повесть набрана, сверстана, обещана читателям в первом номере за 1961 год и на днях… снова запрещена [36].
Далее писатель втолковывал не слишком образованному (скажем так) первому секретарю ЦК, что «Синяя тетрадь» соответствует духу ХХ съезда партии.
Казакевичу оставалось жить всего ничего, и вот он вынужден тратить последние силы на пробивание в СССР своей повести о «великом Ленине», на которого все публично молились. О решении Хрущева известно из того простого факта, что, вопреки всем интригам, «Синюю тетрадь» все-таки в «Октябре» напечатали, и для большинства читателей она стала литературно-политической сенсацией; отдельное же ее издание вышло смехотворным для того времени тиражом в 5 тысяч экземпляров (тиражи новых книг всех советских писателей начинались с 30 тысяч).
 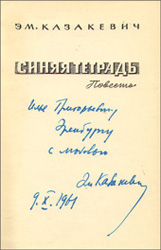  
Книги Эммануила Казакевича с дарственными надписями Илье Эренбургу (из собрания Б.Я.Фрезинского) Еще в 1958-м Казакевич наряду с «Лениным в Разливе» задумал и небольшую повесть о Сталине с нейтральным названием «Озеро Рица». «Напечатанная рядом с “Лениным в Разливе”, она будет иметь громоподобный эффект, равный шекспировской драме по контрастам, величию и дыханию века», — читаем в его дневнике. Беловое начало этого произведения говорит о том, насколько серьезными были раздумья Казакевича о Сталине, как глубоко проник он в нетривиальную психику и суть главного персонажа. В понимании преступной сущности сталинизма Казакевич далеко ушел от своих тогдашних собратьев по перу. Но изнурительное, жесткое и долговременное противодействие цензуры выходу «Синей тетради» лишило писателя заряда, необходимого для работы, и к повести о Сталине он больше не возвращался — надо признать, что и сегодня отсутствие этой книги ощущается как значительная и актуальная потеря нашей литературы.
Однако еще к одному ленинскому сюжету Казакевич все же обратился: это фактически документальный рассказ «Враги» — о том, как в Москве 1921 года Ленин помог любимому другу своей молодости и непримиримому врагу зрелых лет меньшевику Мартову, скрывавшемуся в подполье, уехать в Берлин[37]. Этот рассказ вызвал категорическое неприятие Твардовского и прямой отказ «Нового мира». Казакевич, которому оставалось и жить-то всего полгода — стоял апрель 1962-го, ответил с несомненным достоинством:
Ваши мотивировки хотя и неверны, но искренни. Единственное замечание, которое я себе позволю сделать помимо фактов, изложенных выше: мне, наивному человеку, все еще кажется непонятным — как это можно не напечатать произведение добросовестного и уже зарекомендовавшего себя писателя? Как можете Вы в этом вопросе идти вразрез со своим стократно выраженным мнением, что нельзя не печатать произведение известного писателя, хотя бы оно и не очень нравилось редактору? <...> И даже в том, что Твардовский, писатель крупный, может не напечатать другого писателя, — в этом тоже есть какая-то ненормальность. Ведь я, Казакевич, не могу уже написать нечто неудобопечатаемое, совершенно безнадежное. У меня уже есть квалификация и забота о собственном имени. Если же моя вещь окажется неудачной, то на этот случай ведь имеется критика и читательское суждение [38].
Рассказ «Враги» напечатал в своей газете главный редактор «Известий», зять Хрущева А.Аджубей (а следом, в 1963-м, когда Казакевича уже не было в живых, «Врагов» включили в сборник рассказов «Библиотеки “Известий”»).
Здесь была названа вся опубликованная проза Казакевича, добавить надо лишь два значимых (и опять-таки осужденных критикой) поздних и серьезных его рассказа: «При свете дня» и «Приезд отца в гости к сыну»…
Вениамин Каверин, перечислив всё напечатанное Казакевичем, составил еще два перечня: 1. список начатых и частично написанных им книг (11 названий, включая роман, две повести, четыре рассказа, две пьесы и один киносценарий) и 2. список задуманного и оставшегося в набросках и планах (пять рассказов, очерки и этюды о русских писателях). По числу позиций эти два списка вдвое превосходят количество завершенных и напечатанных Казакевичем вещей. Замыслы переполняли писателя. «Его архив, — пишет Каверин, — горькое чтение, властно возвращающее к размышлениям о собственной жизни»[39], и эти слова понятны любому литератору, ощущающему лимит времени… Причем речь идет не о планах и набросках, а именно о написанных началах и промежуточных главах текста. Из всех планов, конечно же, самым значительным был замысел романа «Новая земля», который уже давно и вовсю писался. Закончить именно его молил Господа Казакевич, именно его, уже умирая, он продолжал диктовать своему секретарю, как только чуть отпускала боль. Незаконченной оказалась грандиозная эпопея советских лет, конца 1920–1930-х, — изнутри и хорошо известного ему сталинского времени, воссоздавая которое, он был свободен от каких-либо иллюзий…
Если говорить о неразработанных, едва намеченных поздних планах Казакевича, мельком отмеченных им в дневнике, упомяну лишь один, записанный 10 ноября 1961-го и, надо думать, небезразличный читателям «Народа Книги в мире книг»:
Автобиографическую повесть лучше, пожалуй, написать либо в третьем лице, либо от себя, но назвав себя другой фамилией… не для свободы большей, а для художественности и, главное, для более свободного обсуждения проклятого еврейского вопроса (что труднее, когда пишешь о себе). Повесть назвать «Рабинович» — фамилией из еврейского анекдота — и вести рассказ от имени этого совсем не анекдотического, а трагического и глубоко чувствующего и любящего Россию и русских человека, не всегда встречавшего взаимность. Но тогда повесть угрожает стать посвященной только этому вопросу, вовсе не самому главному в жизни, хотя и немаловажному. А выглядит это здорово: Рабинович Повесть
И к этому тоже Господь не дал ему вернуться…
Маргарита Алигер оставила свидетельство о Казакевиче в больнице, когда уже все (включая его самого) понимали, что он умирает:
В один из последних дней разыгралась незабываемая сцена. В палату вошел молодой врач-анестезиолог и занялся наладкой установки закиси азота, стоящей в изголовье, — этот вид наркоза давали больному в самые тяжелые минуты. Казакевич лежал с закрытыми глазами. Врач заметил, что по щеке из-под закрытых век катится слеза. — Закись? — негромко спросил он. — Нет, зависть, — не открывая глаз, ответил Казакевич. Врач отошел от него, негромко сказав нам: — Бред. Действие наркоза. Казакевич с усилием открыл глаза и совсем тихо, очевидно из последних сил, сказал: — Не бред… — и указал глазами на висящие у постели наушники, откуда слышалась музыка Моцарта… — Тридцать шесть лет, а сколько успел… А я? Надо было все забыть, все бросить… Только писать… Все написать… — и умолк и снова закрыл глаза [40].
22 сентября 1962 года его не стало. Бывают несправедливости, при мысли о которых и полвека спустя щемит сердце… [1] Эта и все дальнейшие цитаты из дневника Казакевича приводятся по изданию: Казакевич Э.Г. Слушая время: Дневники. Запис. книжки. Письма. М., 1990. [2] Ценные биографические сведения о детстве и юности Эммануила Казакевича читатель найдет в составленном Г.О.Казакевич и Б.С.Рубеном сборнике «Воспоминания о Эм.Казакевиче» (М., 1984). Его первое издание вышло в 1979 году. [3] Сын унаследовал эту болезнь отца, что не помешало ему записаться добровольцем на фронт. [4] Благодарю А.С.Френкеля за любезные консультации и справки по части разнообразных источников на идише, потребовавшихся мне для этой статьи. [5] Казакевич Г.Г. Немного о нашей семье // Воспоминания о Эм.Казакевиче. С. 21. Этот мемуарный очерк, написанный старшей сестрой Эммануила Казакевича в 1983 году, тогдашняя цензура, разумеется, постаралась подчистить так, чтобы слово «еврейский» пореже мозолило глаза. [6] Сестра вспоминает, что он не пропускал ни одного выступления Маяковского в Харькове, а потрясенный вестью о самоубийстве поэта, бросился в Москву на его похороны. Десятилетие спустя, в 1940 году, издательство «Дер эмес» выпустило на идише сборник избранных произведений Маяковского — бо́льшую часть переводов для этого издания выполнил именно Эммануил Казакевич. [7] Еврейский писатель Гирш Добин даже принялся тогда писать роман о двадцатилетнем председателе колхоза Эммануиле Казакевиче. [8] Рубен Б.С. Казакевич. М., 2013. С. 7. В этой компактной книжке широко используются материалы личного архива писателя. [9] См.: Бытовой С. Сердце друга // Воспоминания о Эм.Казакевиче. С. 82. [10] Грустный курьез времени — первой книгой, переведенной «японским шпионом» Казакевичем на идиш в 1937 году для издательства «Дер эмес», стала брошюра некоего Уранова «О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок». Позже вышли из печати другие выполненные им переводы — «Неведомый шедевр» Бальзака (1939), «Избранные произведения» Маяковского (1940). [11] Эта книга была подписана в печать в самый канун войны — 5 мая 1941-го. [12] В сентябре 1951-го, работая в Румянцевском музее, Казакевич вспомнил, как еще до войны мечтал там о Колумбе (незавершенная пьеса) и Моцарте (киносценарий, тоже начатый по-русски). См. об этом: Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 43. См. также статью Шуламит Шалит «“Адмирал океана” (Эммануил Казакевич и его пьеса о Колумбе)» (http://berkovich-zametki.com/2011/Starina/Nomer1/Shalit1.php). [13] Гирш Шоломович Ошерович (1908–1994) — еврейский поэт. Родился и жил в Литве; годы с 1949-го по 1956-й провел в лагерях; в 1971-м уехал в Израиль. Фрагменты из упоминаемой Казакевичем поэмы Ошеровича «Спартак» появились в том же 1961 году в одном из варшавских еврейских изданий, три года спустя — в московском журнале «Советиш геймланд». [14] Источником легенды послужило ошибочное утверждение русскоязычной израильской энциклопедии: «В конце 1950-х — начале 60‑х гг. Казакевич снова стал выступать на идиш с критическими заметками и статьями в издававшихся в Польше газете “Фолксштиме” и журнале “Идише шрифтн”» (Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1988. Т. 4. Стб. 31). На самом деле таких «заметок и статей» Казакевича не существует. Его единственная статья в «Фолкс-штиме», напечатанная там через пять лет после смерти автора, представляет собой перевод (выполненный редакцией) написанного по-русски предисловия к одному московскому изданию. В варшавской еврейской прессе 1950–1960-х годов несколько раз появлялись подборки стихотворений Казакевича, но все они — перепечатки из его довоенных сборников. Полный перечень этих публикаций см. в библиографическом справочнике: Dos sovetishe yidntum in shpigl fun der yidisher prese in Poyln. Yerusholaim, 1975. Z. 109, 157. [15] Я слышу всё...: Почта Ильи Эренбурга, 1916–1967. М., 2006. С. 244. [16] Там же. С. 610–611. [17] Машинописная копия Эренбурга (собрание автора). [18] Тут уместно будет заметить, что это вызвало зависть многих бездарей, и поэт Михаил Светлов, известный острослов, услышав от одной посредственной литераторши недоумение: как это бывший до войны еврейским поэтом Казакевич получил Сталинскую премию за русскую прозу, предложил ей: «Дорогая… не перейти ли тебе на еврейские стихи?» (Игин И.И. Улыбка Светлова. Л., 1970. С. 37). [19] О том, что первоначально «Звезда» писалась именно по-русски и лишь затем была переведена Казакевичем на идиш, можно судить, прежде всего, по последовательности публикации двух авторских версий. По-русски повесть впервые появилась в январском номере журнала «Знамя» за 1947 год, на идише — в двух номерах газеты «Эйникайт» за апрель того же года. В книжной форме еврейская версия («Грине шотнс») увидела свет дважды — в московском издательстве «Дер эмес» (1947) и варшавском «Идиш бух» (1954). [20] Николай Васильевич Лесючевский (1907–1978) — в те годы главный редактор издательства «Советский писатель». [21] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 475. [22] Там же. С. 483. Речь идет о запрещенной цензурой повести Казакевича «Ленин в Разливе». [23] В 1950 году в Монтевидео роман «Весна на Одере» вышел и по-еврейски — без обозначения фамилии переводчика, что в наши дни породило очередную гуляющую по интернету легенду о «возвращении Казакевича к идишу»: якобы это был авторский перевод. Легенда представляется абсолютно беспочвенной — в то время нелегальная передача советским писателем рукописи на Запад была попросту невозможной. К тому же существует свидетельство еврейского журналиста Гирша Смоляра: в самом начале 1950-х на предложение подготовить собственный перевод «Весны на Одере» для варшавской «Фолкс-штиме» Казакевич ответил решительным отказом (см.: Smolyar H. Oyf der letster pozitsye — mit der letster hofenung. Tel-Aviv, 1982. Z. 205). [24] Подчеркну, что в то время у нас в общественном сознании это слово имело сугубо отрицательный смысл. [25] Паустовский К.Г. О человеке и друге // Воспоминания о Эм.Казакевиче. С. 420. [26] Б.М.Сарнов не раз приводил в своих книгах этот сонет; последний раз — в комментариях к подготовленной им к печати книге Бориса Слуцкого «Покуда над стихами плачут…» (М., 2013. С. 372). Отмечу, что третью строку третьей строфы сонета молва приписывает дружившему с Казакевичем А.Т.Твардовскому. [27] История «Литературной Москвы», едва ли не главным героем которой был Эммануил Казакевич, заслуживает большого и специального разговора, а здесь я о ней лишь упоминаю. [28] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 427. Отмечу, что среди прочих литературных забот Казакевича марта 1958-го было и редактирование вышедшего по-русски два года спустя романа «На Днепре» Давида Бергельсона — еврейского писателя, расстрелянного в 1952-м. [29] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 448. [30] Признаюсь: несмотря на серьезный, с детства интерес к советской истории и доступ к некоторым малодоступным тогда источникам прежнего времени, я тем не менее, как, понятно, и большинство советских читателей не слишком старого возраста, до знакомства с повестью Казакевича не знал, что в ставшем музеем шалаше в Разливе Ленин жил не один, а вдвоем с Зиновьевым. Не знали этого, возможно, и сотрудники «Нового мира». [31] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 451. [32] Твардовский А.Т. Собр. соч. М., 1983. Т. 6. С. 97–98. [33] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 475. [34] Там же. С. 483. [35] Первый и второй — члены Президиума и секретари ЦК, третий — кандидат в члены Президиума ЦК. [36] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 486–487. [37] Эту историю рассказал Казакевичу его приятель, писатель А.Крон, который знал ее от близкого друга своей семьи С.С.Михайловой‑Штерн, по просьбе Ленина лично разыскавшей в московском подполье Мартова (см.: Крон А.А. Самый интересный собеседник // Воспоминания о Эм.Казакевиче. С. 215). [38] Казакевич Э.Г. Слушая время. С. 515. [39] Каверин В.А. Э.Казакевич // Воспоминания о Эм.Казакевиче. С. 451. [40] Алигер М.B. Последняя весна // Там же. С. 405. |
           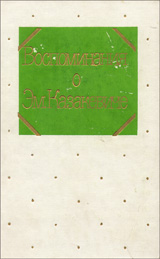  |



