|
Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)
№ 101 / Декабрь 2012 Листая толстые журналы
|
|
||||||||
|
Вардван Варжапетян. Книга сказок. Знамя, 2012, № 7
Автор — бывший редактор армяно-еврейского журнала «Ной». Сказки лаконичные, минималистские, иногда милые и забавные, иногда не очень. Сказка про желтую звезду, пришитую на пальто старой еврейки, к сожалению, из слабейших: псевдомногозначительная и сентиментальная.
Галина Писаревская. Одиссея современного Гамлета. Рецензия на роман А.Мелихова «И нет им воздаяния». Знамя, 2012, № 8
О самом романе Мелихова мы уже писали. Что же до рецензии Писаревской, то вот важная цитата:
Складывается впечатление, что главный герой романа Лев Каценеленбоген — натура одновременно и цельная, и противоречивая. По крови он не русский и не еврей — полукровка. Он и русский, и еврей — по мировосприятию. Ему стыдно как за тех, так и за других. И так же одинаково больно. Такая вот нераздельность и неслиянность. В идеале он хотел бы видеть себя аристократом, нацеленным только на великие дела, а не интеллигентом — оплакивателем судьбы простого маленького человека. На деле же он в большей мере второе, чем первое. Трудно представить, чтобы он мог во имя великого и вечного переступить через жизнь маленького человека, который сам-то не ценит сострадания к себе и тянется к большому, вечному.
Критик по-своему хорошо понимает внутренний конфликт мелиховского романа, но картина мира у него своя, и она сказывается на интерпретации книги. Писаревская, кажется, склонна приписывать бунт против интеллигентских ценностей герою и только герою, хотя в своей публицистике Мелихов сам не раз высказывался в том же духе.
Виктор Соснора. Диски безнадежностей. Знамя, 2012, № 9
Произведение одного из крупнейших русских поэтов второй половины XX века (а также мастера эссеистической и исторической прозы). Среди прочего — рассуждение о «еврейском вопросе» (у Сосноры — чуть ли не единственное в жизни):
Почему Европа полна антисемитизма? Европа никогда не была самостоятельной, ни одна страна. Они не сумели написать себе убедительной религии. Поэтому латинизация, а потом христианство. Это не «еврейский элемент», а фундамент европейской цивилизации. Легко догадаться, что за 1000 лет (скажем так) каждое новое поколение воспитывалось на Библии, принудительно. Без веры в иудейскую религию, какой бы конфессией она ни была представлена, ни один европеец не мог и еще не может сделать свою жизнь сносной, уж не говоря о карьере. За 1000 лет все до одного европейцы стали иудеями больше, чем евреи. Потому что сильные движения против Библии мы наблюдаем только у евреев, или же гибридов (неоплатоники, среди них даже император уже христианского мира — Юлиан), но не у представителей «чистых» рас. Все ж нужно помнить, что св. Павел был и остается Савлом. Их множество в королевских и других группах власти — и сейчас. А крупные уничтожения (физические), и это надо запомнить, — программировали евреи или же гибриды — Орден иезуитов, Крестовые походы, Мальтийский орден, Ленин, Гитлер. У всех этих гибридов с евреями был общий план уничтожения евреев. И пока существуют конфессии Библии, антисемитизм со всеми последствиями будет. Страх перед евреями громаден, и если вдруг его снять, то за душой у 1 млрд 200 млн христиан просто ничего не останется…
«Еврейская тема» (но не пресловутый «вопрос») неоднократно всплывала в стихах Сосноры как лирическое, но не историософское высказывание. В этом же отрывке характерное для Сосноры дилетантское и эпатажное историософствование, начав с банальностей, вдруг переходит в одиозную неправду антисемитского мифа и завершается неожиданным поэтическим провидением, гротескно преувеличенным, но содержащим важное зерно потаенной истины.
Впрочем, новая проза Сосноры включает и замечательные фрагменты — например, воспоминания про поэта-футуриста Алексея Крученых, радикальнейшего авангардиста в первую половину жизни, аккуратного и надменного библиофила — во вторую.
Леонид Рабичев. Тюремный дневник отца. Знамя, 2012, № 9
Николай Вульфович Рабичев, сверстник, сосед и свойственник Лазаря Кагановича, в 1919 году оказывается под судом в Саратове «за грандиозные хищения». Дело продолжается около полугода и в конце концов заканчивается оправданием. Но сперва Николай Вульфович ожидает в камере расстрела... Рабичев — убежденный коммунист. При этом — возвышенный идеалист, не без самолюбования: «У меня… вопрос чести стоит выше всего. Как человек, я ставлю выше нравственную сторону жизни. Состоя в какой-либо корпорации, я стараюсь внести в нее дух чести, всячески охраняя достоинство организации, в которой состою». И одновременно — типичный российский интеллигент, изъясняющийся дистиллированным, школьно-правильным русским языком и никогда не вспоминающий о своем еврействе — ни при известии о гибели матери от рук погромщиков, ни при встрече со своими обвинителями и клеветниками (они — тоже евреи, Бонквицер и Флеровский).
Дата кончины Николая Рабичева — 1952-й, для евреев СССР — год зловещий. Но как раз его смерть, кажется, была естественной, а карьера на последнем этапе — сравнительно благополучной: «До предпоследнего дня жизни… практически возглавлял плановый отдел Министерства нефтяной промышленности».
Маша Рольникайте. Слишком долгой была разлука… Повесть. Звезда, 2012, № 7
Чего меньше всего ожидаешь от Рольникайте — это утешительной сказки. Хотя и в страшном контексте Холокоста. Впрочем, может быть, в контексте все и дело?
Семья Шераса, прежде скрипача, а теперь столяра, обитателя Виленского гетто, пытается спасти свою маленькую дочку от неминуемой гибели. Отец выбирается из гетто и ходит по семьям старых знакомых, уговаривая взять к себе ребенка. Одна из семей соглашается. Девочку благополучно выносят из гетто и передают приемным родителям. Шерасы проходят и гетто, и концлагерь, но остаются в живых, после войны возвращаются к прежней жизни и начинают искать свою дочь. Выясняют, что ее приемные родители (актеры, пан Стонкас и пани Стонкене) то ли ушли с немцами, то ли были увезены ими…
Тут, собственно, рассказ и должен заканчиваться. Но — о чудо! — Стонкасы возвращаются. И не попадают в советский лагерь. И девочка с ними (разумеется, она считает именно их мамой и папой). Возникают психологические проблемы, но они разрешаются — девочка узнает правду и в конце концов принимает как данность, что у нее два комплекта родителей. Конечно, для Шерасов дочь все равно отчасти потеряна. Но это — обычная бытовая драма. Не трагедия. И именно на фоне того, что почти неминуемо должно было случиться со всеми персонажами истории, такой исход кажется почти неправдоподобно идиллическим… Утешительным. Сказочным.
Олег Юрьев. Неизвестное письмо писателя Л.Добычина Корнею Ивановичу Чуковскому. Звезда, 2012, № 7
Новое произведение Олега Юрьева вызвало взрыв эмоций. Некоторые даже приняли литературную мистификацию (точнее — игру в мистификацию) за чистую монету и готовы были поверить, что прекрасный прозаик Леонид Добычин не покончил с собой в 1936 году после «проработочного» собрания в Союзе писателей, а, имитировав свою смерть, бежал в совхоз Шушары, где долгие годы трудился экономистом-плановиком (между делом побывав и в занятом немцами Новгороде, и в Германии, и в ссылке в Экибастузе). Много спорили и о стилистике «письма Добычина», имитирующей подлинный эпистолярный слог писателя, и о той концепции истории русской литературы XX века, которая встает за текстом Юрьева.
Сюжет, стало быть, таков. Навсегда оставив словесность, автор «Города Эн» и «Встреч с Лиз» оказывается в позиции наблюдателя — наблюдателя из дальнего угла, из забытого богом пригородного совхоза. Правда, судьба «случайно» сводит его с примечательными литературными людьми. От Бориса Филистимского, зловещего коллаборациониста из Новгорода, в другой, послевоенной жизни ставшего видным американским профессором-русистом Борисом Филипповым, публикатором Мандельштама и Гумилева, до зэка Солженицына, еще не догадывающегося в Экибастузском лагере о своей будущей славе… От Веры Пановой до Сергея Вольфа… На тихой пенсии он доживает до перестройки и с неудовольствием наблюдает, как посторонние лица (в том числе некий Олег Юрьев) самовольно перепечатывают его рассказы. Все это он описывает в бесконечном, никогда не отправленном, все пополняющемся письме к сперва живому, а потом мертвому Чуковскому.
Суждения «Добычина» о советской литературе, за которой он следит по периодике, лаконичны и язвительны:
Теперь, Корней Иванович, спрос с вас, с советских писателей, станет двойной: Партия и Правительство будут желать от вас искренности — как и всегда желали, в награду за свою любовь и заботу, но и Прогрессивная общественность, т. е. вы сами, будет ее от вас требовать. В результате разовьется такое двуличие, какого и при генералиссимусе не было. Еще точней говоря, выведется особая порода Беллетристов, которые что ни напишут, всё будет совершенно искренне.
Это — оттепель, середина пятидесятых. А вот — восьмидесятые годы, самый канун новых великих перемен:
…нынешние Начальники согласились бы и на антиколхозное по содержанию, главное, чтобы по форме было колхозное. Ибо Начальники более всего не желают нашей презрительности. Что мы пишем, в конце концов дело неважное, ошибемся — поправят, но как — не должно обижать Начальников и их Подчиненных.
Это, пожалуй, уже не о прошлом, а о настоящем времени, ибо Начальники (всех сортов и идеологий) и их Подчиненные изменились не так уж сильно. И, конечно, это очень похоже на собственные культурологические суждения Юрьева, высказанные в его статьях. Автор и не скрывает особенно, что выбрал «маску» Добычина, чтобы попытаться взглянуть на литературу и эпоху из иной социокультурной позиции.
Не в пример многим другим произведениям Юрьева, еврейская тема присутствует здесь лишь маргинально. Например, в письмах постоянно упоминается сослуживица Фаина Александровна Колобова (урожденная Соловейчик), одесситка. Между прочим, желающая Добычину (то есть Ерыгину — он живет под этим именем) дожить до — само собой — ста двадцати. Последний, оборванный фрагмент письма относится к 1994 году. Добычину тогда как раз исполнилось сто. До ста двадцати он и по сей день еще не дожил, а о кончине его в произведении Юрьева ничего не сказано…
Игорь Архипов. Ю.О.Мартов: трагедия «мягкого» революционера. Звезда, 2012, № 7
Эссе об одном из лидеров российской социал-демократии Юлии Осиповиче Цедербауме, чей партийный псевдоним Мартов (первоначально «Л.Мартов», как «Н.Ленин») стал его новой фамилией.
Сначала — история семьи. Дед — издатель и редактор первых еврейских газет в России. Отец — «преуспевающий служащий “Русского общества пароходства и торговли”». Семья живет в Константинополе, в доме говорят «исключительно на французском и новогреческом (языке прислуги)». Ни русского, ни идиша. Потом — возвращение в Россию, обучение сверх нормы в Первой петербургской гимназии (благодаря покровительству министра просвещения Делянова, вообще-то известного антисемитизмом, но Цедербауму-дедушке благоволившего). Было ли у кого-то еще из русских революционеров еврейского происхождения такое «патрицианское» детство и отрочество?
Это — начало. А вот финал. Прикованный к постели в Горках Ленин с грустью сообщает Крупской: «…и Мартов тоже, говорят, умирает». Мартов умер в горах Шварцвальда 4 апреля 1923 года. Ильич, когда-то — ближайший друг, а потом много лет — враг, успел об этом узнать. И, говорят, расстроиться.
Левый либерал, умница, блестящий оратор, европеец до мозга костей, сторонник революции, но враг насилия, Мартов был главой легальной, парламентской оппозиции большевикам с 1917 по 1920 годы. Он пытался спорить со своим былым другом Ульяновым с трибуны Съезда Советов — в те годы, когда большевики вели гражданскую войну с другими противниками, говорившими на одном с ними языке — языке крови и силы. «Вряд ли кто-либо нанес большевистской идеологии столько смертельно ранящих ударов, как Мартов, и вряд ли кто-нибудь сделал столько, чтобы предотвратить самую возможность ее возрождения в рабочем классе России и всего мира!» — эти пышные слова из некролога, написанного меньшевиком Ф.И.Даном, читаются с горькой иронией…
Александр Гуревич. Стихотворения. Звезда, 2012, № 8
Поэт (и талантливый переводчик английской поэзии) Александр Гуревич (1959–2002) был характерным представителем одного из течений позднеленинградской лирики: ясность мысли, обилие бытовых подробностей, пристрастие к стиховой игре… Несколько стихотворений, напечатанных посмертно (через десять лет после смерти!), — кажется, лучше всего, изданного им при жизни. Стихотворение «Распад формы», проникнутое мужественным и насмешливым трагизмом (речь в нем — о гибели Петербурга), достойно включения в антологии. Другое стихотворение — «Речь об Экклезиасте» — тоже сильное, хотя и не без лишнего многословия:
Что мне мудрость веков? Что мне золота звон? Что мне власть и ее обветшавший завет? Но безумнейший царь из царей, Соломон, Приглашает насмешливо в свой кабинет.
Тщетно рвусь я из плена пространств и времен, Зря стараюсь порвать петли ржавых цепей: С иудейским упорством талдычит закон Над рассыпанной вдребезги плоскостью дней.
Марк Зайчик. Румынская рапсодия. Рассказ. Звезда, 2012, № 9
Румынский ресторан около Цфата, повар Стеля Грач (или Стриж, никто не помнит точно), официантка Жанна, их любовь, посетители ресторана, кошка Мицци, питающаяся только кошерным мясом (в отличие от своего хозяина). Характерное для Зайчика сочетание хорошей фактуры и тонко замеченных деталей с неумением выстроить цельный текст. Почему-то герои в конце оказываются настоящими русскими интеллигентами: румын-ресторатор с запутанной биографией вспоминает сонет Шекспира в переводе Маршака и перечитывает, лежа в постели с любимой, тюремные воспоминания Заболоцкого!
«Время сердца». Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана. Иностранная литература, 2012, № 10
Любовь двух поэтов, дружба двух поэтов… Двух великих поэтов. Поэтов, рано (для своего века и поколения) ушедших. А если еще он — чудом спасшийся в дни Холокоста буковинский еврей, автор «Фуги смерти», которая для миллионов европейцев стала символом еврейской трагедии, а она — дочь австрийского учителя-нациста?
Изощренно-литературная форма писем маскирует болезненную уязвимость сознания двух поэтов, прорывающуюся в самых разных случаях. Целана ранят и специфические профессиональные невзгоды, и недоразумения (обвинение в плагиате со стороны Клэр Голль, злобной и вздорной вдовы поэта-экспрессиониста, — ее знаменитые мемуары, вышедшие впоследствии, называются «Никому не прощу»), и всё, связанное с Холокостом, с антисемитизмом, с нацизмом, даже с его призраком.
Критик Блекер в не вполне благожелательной, но в целом учтивой рецензии написал, что Целан «относится к немецкому языку с большей свободой, чем большинство его коллег по поэтическому цеху» и что «это, возможно, объясняется его происхождением». Целан в ярости, хотя Блекер, не исключено, имел в виду лишь факт его рождения на Буковине. Но, конечно, главное в другом: Блекер увидел в «Фуге смерти» лишь «упражнение в контрапункте». А для Целана это — «надгробная надпись и могила… Кто пишет о “Фуге смерти” так, как написал этот Блекер, — оскверняет могилы». Напрасно друзья Целана, Бахман и Макс Фриш, пытаются указать ему на недопустимость политизации литературной полемики. Это приводит лишь к временному разрыву отношений.
Михаэль Кумпфмюллер. Великолепие жизни. Фрагмент романа. Иностранная литература, 2012, № 10
Действие романа современного немецкого писателя происходит, по-видимому, в двадцатые годы. Герои — немецкие евреи, живущие в мире своих утонченных чувств и многослойных взаимоотношений, — не догадываются о подступающем будущем. Девушка учит иврит с преподавательницей. Героя зовут в Палестину, но он скептически относится к сионистскому проекту. Песчаные крепости на пляже украшены звездами Давида… Может быть, впрочем, это не историческое время, а какая-то условная, параллельная реальность? Во всяком случае, призрак Холокоста где-то рядом и придает трагическое измерение респектабельно-буржуазному «великолепию» описанного автором мира.
Пока это все, что можно сказать. Подождем полного перевода романа.
Михаил Бродский. В четвертой семье. Новый мир, 2012, № 9–10
Продолжение воспоминаний «Мама, нас не убьют?», напечатанных во втором номере «Нового мира» и отраженных в нашем предыдущем обзоре.
Мальчик, чью мать расстреляли в Одессе немецко-румынские оккупанты, а отца после войны сослали в Казахстан за то, что ухитрился выжить при оккупации, оказывается в Москве. Там его фактически усыновляет семья актера-одессита Мелиссарто. Из мира одесских адвокатов и врачей мальчик попадает в столичную артистическую среду. С одной стороны — тринадцатиметровая комната в коммуналке (после просторных одесских квартир). С другой — такая фантастическая в сталинские годы вещь, как регулярные гастрольные поездки за границу. Исторический фон — борьба с «космополитизмом», смерть Сталина, потом оттепель…
Есть выразительные подробности. Вот — 1951 год. Мальчик Володя Бахрах, позднее знаменитый ученый, пытается поступить на химфак МГУ, на тот момент совершенно «юденфрай»:
На собеседовании, отчаявшись обнаружить пробелы в знаниях, Володю спросили, кто такой Франсуа Тибо. Володя не знал. — Вот видите, — с облегчением сказал экзаменатор, — это настоящее имя знаменитого французского писателя, который писал под псевдонимом Анатоль Франс. У вас, молодой человек, односторонняя эрудиция, а в университете у нас высокие требования к общей культуре студентов. Володю не приняли.
Александр Люсый. Одесский Борхес с шашкой Бабеля. Дружба народов, 2012, № 7
Рецензия на книги одесского писателя Александра Айзенберга «Imperium» (2007), «Страсти» (2009) и «Узурпаторы» (2011), изданные петербургским издательством «Алетейя». Кроме Борхеса и Бабеля критик также сравнивает автора с Фейхтвангером, Торнтоном Уайлдером и Маркесом. Для хорошей литературы — слишком много слишком разных параллелей.
Валерий Столов. Холокост: ожившее Средневековье или явление Модерна? Дружба народов, 2012, № 8
Автор спорит со взглядом на Холокост как рецидив средневекового варварства:
…существование евреев в Средние века вовсе не сопровождалось постоянными мучениями, притеснениями и страданиями. В сословном обществе того времени они составляли одну из замкнутых корпораций, имевшую свои повинности и свои привилегии. Разумеется, безопасным их существование не было. Но у кого в те лихие времена оно было таковым? С другой стороны… невозможность полного уничтожения гарантировалась определенной ролью, отводимой евреям в христианской эсхатологии. В Новое время, по мере углубления секуляризации, запрет на убийство евреев перестал выполнять свою останавливающую роль. <…> …Холокост стал возможным не потому, что его исполнители действовали «средневековыми» методами, а, напротив, потому, что их методы слишком далеко ушли от средневековых.
Несомненно, так и есть. Другое дело, что Средние века — эпоха долгая, а Европа — мир большой и сложный. Положение евреев в VIII веке было не таким, как в XIV-м, а во Франции Филиппа Красивого не таким, как в Польше Казимира Великого. Но тут ожидаешь анализа: какие именно идеи и общественные механизмы Нового времени породили печи Освенцима? К сожалению, вместо этого разговор вдруг заходит о вещах куда менее важных: о том, что идея тотального уничтожения евреев овладела нацистами не сразу, или о том, что это уничтожение стало предметом соперничества разных ведомств нацистского режима.
Зинаида Палванова. Утреннее зеркало. Стихи. Дружба народов, 2012, № 9
Поэтесса, живущая в Израиле. Стихи любовного содержания, а также вдохновленные поездкой в Москву, наивные до трогательности и почти беспомощные технически.
Зоя Копельман. Мистика творчества. Дружба народов, 2012, № 10
Рецензия израильского литературоведа на книги Рады Полищук «Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти» (2005), «Семья, семейка, мишпуха» (2010) и «Лапсердак из лоскутов» (2012). Критик не чуждается восторженного и сентиментального пафоса: «Читателя вводят в волшебный мир, заманивают чистым, улыбчивым русским языком, который, оказывается, прекрасно умеет лепить еврейские лица и интонации, потому что воистину могуч и велик. И мы не раз смахиваем слезы — то в умилении, то в печали, а то — освежительные слезинки смеха. Что ж за еврейская книжка без слез?» Поминаются и «хасидские истории о праведниках и чудотворцах», с которыми ассоциируются у рецензента мелодраматические «чудеса», наполняющие рассказы московской писательницы. Создается впечатление, что упоминания о хасидском фольклоре превратились в своеобразный шаблон, без использования которого не обходится сейчас отзыв на любую «еврейскую» прозу.
Михаил Юдсон. Имя прозы. Рецензия на книгу Игоря Гельбаха «Очертания Грузии» (Иерусалим, 2012). Нева, 2012, № 7
Написано, как все рецензии Юдсона, пышно и «литературно». Впрочем, отчасти это и манифест: «Мне отродясь по вкусу не опостылая ржавая селедка реализма, а вот такой постфоршмак по Гельбаху — ажурные разводы прозы, мидии и Медеи под одной крышкой, краса красот, пустот прозрачный воздух…» В Грузии (и Абхазии) Гельбаха, замечает среди прочего Юдсон, «Абрамов, опять же, много, евреев — грузинских и просто так себе: даже начальник портовой милиции — и тот Шапиро (хотя в порт лучше бы пошел Рапопорт)».
Елена Крюкова. Врата смерти. Роман. Нева, 2012, № 9
Довольно претенциозное и рыхлое сочинение (впрочем, роман напечатан, кажется, в отрывках, и о композиции судить трудно). Истории из жизни наших современников (в основном они, как и следует из названия, при разных обстоятельствах умирают) пронизаны евангельскими реминисценциями — слишком «лобовыми» и многословными. Один из героев перед смертью вспоминает свои любимые блюда. Среди них оказывается и фаршированная рыба, которую его маму научила готовить соседка, «чудом выжившая в Бабьем Яре добрейшая Екатерина Марковна». Надо сказать, кстати, что кулинарная часть далась автору лучше, чем библейская метафизика.
Борис Фрезинский. Уроки фальсификаторам и плагиаторам. Рецензия на книгу Лидии и Константина Азадовских «История одной фальсификации» (М., 2011). Нева, 2012, № 9
Сюжет таков. В 1960-е годы Л.В.Азадовская, готовя к публикации наследие своего мужа, литературоведа и фольклориста Марка Константиновича Азадовского, сделала небольшое открытие: часть переписки Горького с сибирским литератором В.И.Анучиным — фальсификация последнего. Такой же фальсификацией являются и воспоминания Анучина о Ленине. Азадовская написала об этом две статьи, одну из которых напечатали сразу (в «Новом мире»), вторую (где речь шла о Ленине) — погодя и в сокращении: слишком идеологически нагруженной оказалась тема. В 1990-е некоторыми специалистами по творчеству Горького эти разоблачения были подвергнуты сомнению, и Константину Марковичу Азадовскому, уже знаменитому ученому, пришлось защищать изыскания своей матери. Все это, пожалуй, интересно лишь ограниченному кругу знатоков.
Однако вот любопытное ответвление сюжета. В 1965 году некто Б.В.Яковлев, автор книги «Ленин в Красноярске», беспардонно присвоил открытия Азадовской, в чем и был уличен «Новым миром». Фрезинский как специалист по Эренбургу знает имя этого человека в связи с другой историей. Яковлев (в девичестве Хольцман) оказался упомянут в мемуарах «Люди, годы, жизнь» среди жертв «антикосмополитической» кампании. В особом письме Эренбургу он выразил недовольство этим упоминанием («власть могла подумать, что он жаловался на свою судьбу… автору мемуаров») и особенно тем, что писатель привел в скобках его первоначальную фамилию — фамилию, от которой этот биограф Ленина отказался после ареста отца, известного врача.
Мелкие, но характерные подробности советской литературной жизни…
Леонид Левинзон. Удивительный мир. Рассказ. Октябрь, 2012, № 7
Писатель из Израиля. Обычная история (женская жизнь — муж — ребенок — любовники), но хорошо сделано на микроуровне. Удивительно «русские» история, люди, взаимоотношения. Перемещение на Землю обетованную как будто ничего в этом не меняет: «Я слесарь шестого разряда, зарплату на ветер кидал…» или «У нас в армии пьют стоя!»… Притом что сам автор родом из Украины, с Волыни.
Александр Хургин. Рассказы. Октябрь, 2012, № 10
Во вступлении поэт-юморист Игорь Иртеньев сообщает, что «свое шестидесятилетие замечательный русский писатель, он же любимый мой друг Александр Хургин радушно встречает в расцвете по-прежнему творческих сил». Далее нас оповещают, что рассказы печатаются «в авторской редакции». Как это понимать? Журнал снимает с себя ответственность за качество текста? Взаимоотношения автора и редакторов, их разногласия, наличие или отсутствие правки — дело интимное и читателя не касающееся. Что до самих рассказов, то Хургин не просто находится в расцвете сил — он явно стал писать лучше, может быть потому, что ушел от специфически эмигрантских анекдотцев. Во всех рассказах есть драйв, кроме первого, в котором как раз и затрагивается — в анекдотическом аспекте — еврейский вопрос: разгром израильской военщиной свободолюбивых арабских государств в 1967 году привел к массовой драке в троллейбусе номер четыре.
Александра Ильф. «Только блеск и только сияние…» Октябрь, 2012, № 10
В начале биографического очерка об отце автор приводит ироническое замечание Ильи Ильфа: «Все равно про меня напишут: “Он родился в бедной еврейской семье”».
Кажется, семья была действительно небогатой. Техническое училище, слесарно-механическое отделение — явно «не вариант» для одесского среднего класса. Дальше почти сразу последовала литература. Интересно, что Ильф начинал с лирики, с изощренных верлибров, предвещающих местами французский сюрреализм.
Пусть не увижу неба если скажу об том чего не было Во имя Бога и во имя пчел Во имя желтых пчел, во имя блеска и во имя сияния
Зрелый Ильф — это успешный советский писатель с необычной (кажется, большей, чем у его «близнеца» Петрова) степенью внутренней свободы, со странными грустными шутками и с тайной недореализованностью. Наконец, смерть — естественная, от туберкулеза! — не когда-нибудь, а в 1937 году.
Подробную биографию авторов «Двенадцати стульев» еще предстоит написать. Это может быть примечательная книга…
Саша Либуркин. Два рассказа. Урал, 2012, № 10
Александр Либуркин — известный петербургский окололитературный тусовщик и скандалист. В его рассказах, публиковавшихся ранее, автор описывал собственную тусовочную практику, но эти два — о другом, хотя тоже, видимо, автобиографические. Второй — о любви с элементом невинного эпатажа, первый — о еврейском дедушке, который ругает своих внуков (один подался в актеры, другой женился в девятнадцать лет, к тому же — на русской), но кормит их супом и одалживает им деньги. Деньгам герой-рассказчик дает следующее применение: покупает книгу «Современная немецкая поэзия», поскольку «там хорошие переводы Топорова и других…» Виктор Топоров — тоже скандально-колоритный персонаж петербургской литературной жизни, некогда и в самом деле плодовитый поэт-переводчик. Но едва ли его имя что-то кому-то говорило в Молдавии 1970-х годов (когда, судя по всему, происходит действие рассказа).
Амит Пинчевский, Тамар Либес. Отчужденные голоса: радио и медиация травмы в процессе Эйхмана. Новое литературное обозрение, 2012, № 116
Как указывают авторы, процесс Эйхмана явился самым важным событием в духовной истории Государства Израиль вплоть до Шестидневной войны. Не в последнюю очередь потому, что он транслировался по радио. Радиотрансляция помогала тысячам людей освободиться от травмы Холокоста. До этого времени «жертвы Холокоста не рассказывали о произошедшем, а если и рассказывали, то к ним все равно никто не прислушивался». Боль была слишком свежа, она уходила в подсознание. В 1961–1962 годах она оказалась озвучена:
…сутью процесса Эйхмана стало не только судопроизводство и осмысление исторических фактов — в нем была заложена еще одна миссия: выжившие должны были вести речь за погибших, подтверждать их немые обвинения. <…> …Беззвучные голоса погибших присутствовали как в зале суда, так и в радиоэфире. <…> Процесс Эйхмана стал своего рода коллективным спиритическим сеансом, в котором безголосый источник травмы, как призрак, являлся при любой попытке ее артикуляции.
Во всем этом в самом деле есть, видимо, глубокая истина. Но язык постструктуралистских гуманитарных исследований, сочетающий эссеистическую свободу движения мысли с внешним наукообразием и обилием ссылок на источники, кажется не совсем релевантным теме.
Кристин Лойенбергер. Стены воздвигаются в августе: психологические конструкции Берлинской стены и израильского пограничного барьера. Новое литературное обозрение, 2012, № 116
В основе статьи — рискованная параллель между Берлинской стеной и израильскими защитными сооружениями, отделяющими территорию страны от Палестинской автономии. В центре внимания автора, конечно, вторые:
Если израильтяне могут чувствовать себя в большей безопасности, то палестинцы воспринимают стену как осадное сооружение. Психологи по обе стороны барьера размышляют над психологическими смыслами и последствиями его существования. Их интерпретации позволяют безошибочно определить, на какой стороне — израильской или палестинской — они живут…
Это уж вне всякого сомнения, однако… на войне как на войне. Автор статьи красочно описывает, ссылаясь на социологов, подавляющее воздействие «осады» на палестинский социум. Но Государство Израиль не несет ответственности ни за благосостояние палестинцев, ни за их национальное самосознание. Израильтян в первую очередь волнует степень агрессивности или уступчивости их соседей — партнеров по вялотекущей войне и бесконечным переговорам.
Обращает на себя внимание утверждение: «…ощущение неполноценности передается и палестинским детям, которые теряют самоуважение и начинают задумываться о службе в израильских войсках». О службе в ЦАХАЛе могут задумываться (и изредка даже служат) израильские арабы, но никак не палестинцы, у которых нет израильского гражданства. Начинаешь задумываться о компетентности автора — если, конечно, процитированная фраза не ошибка переводчика.
Михаил Рыклин. Евреи — это кто? Новое литературное обозрение, 2012, № 116
Речь идет о еврейской эмиграции из бывшего СССР в Германию за последние двадцать лет. Советские евреи оказались во многих отношениях не похожи на своих европейских сородичей — чего, впрочем, и следовало ожидать:
…немногочисленные члены старых общин основывали свою идентичность на происхождении от жертв Холокоста… и на принадлежности к иудаизму. Новоприбывшие имели иные корни. Холокост, как вскоре выяснилось, не играл в их сознании доминирующей роли; его место занимала Победа над национал-социалистической Германией. Приехали, другими словами, не евреи-жертвы, а евреи-победители; причем победителями они стали не отдельно, как этнос, а как часть «новой исторической общности», советского народа.
Рыклин пытается описать процесс «подавления» у советских евреев памяти о Холокосте. Большой раздел его статьи посвящен «Черной книге», подготовленной Еврейским антифашистским комитетом в 1944–1947 годах, но так и не вышедшей в СССР. По мнению автора, ее история «свидетельствует о том, что взявшая верх идеология великой победы — не изначальный феномен, а результат многочисленных вытеснений». Думается, однако, проблема многогранней. В США, например, Холокост в первые послевоенные десятилетия тоже не был частью официального дискурса — но в 1960-е положение там изменилось. В Советском Союзе память о гитлеровском геноциде евреев на житейском уровне никуда не исчезала, но статус «спасенных жертв» среди «героев-победителей» был невыгодным, особенно на фоне стереотипов про «ташкентский фронт», которыми оперировал бытовой антисемитизм. В этой ситуации евреи — даже на уровне семейной памяти — стремились подчеркнуть в первую очередь свое полноценное участие в войне. Дядя, погибший под Сталинградом, был более выигрышным и удобным объектом памяти, чем бабушка, убитая в гетто.
Конечно, это оказалось не единственным отличием советских евреев от немецких. И все-таки, помня о былых предубеждениях против «восточных евреев», сыгравших на руку нацистам, на сей раз людей с востока старались принять как можно дружелюбнее. Но одновременно, как признают цитируемые Рыклиным немецкие аналитики, образовательный потенциал еврейских иммигрантов из СССР не был использован в достаточной мере. Результат: в Германии доля живущих на пособие среди них значительно выше, чем в Израиле и США.
Подготовил Валерий Шубинский
|
     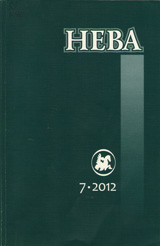    |


